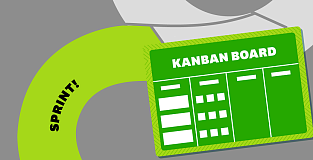читайте также
Все слышали о корейском экономическом чуде. Когда оно произошло и почему?
Действительно, в самой бедной стране Азии, в стране, где не было ни промышленности, ни технических специалистов, за считанные десятилетия экономика из аграрной превратилась в современную, притом экспортно ориентированную. «Чудо» обычно связывают с периодом правления генерала Пак Чжон Хи (1961—1979), хотя стремительный рост продолжался и после его гибели. Если вкратце назвать причины, сделавшие рывок возможным, то у южнокорейского «экономического чуда» есть три слагаемых. Первое — наличие высокодисциплинированной, обучаемой и на первых порах неприхотливой рабочей силы. Второе — продуманная политика, которая учитывала особенности Кореи, в первую очередь — то, что у страны совсем нет природных ресурсов, но зато есть многочисленное и трудолюбивое население. И третье — это американская и, шире, иностранная помощь, которую давали в основном по стратегическим соображениям.
Три фактора, именно в таком порядке по важности. Главное, что люди работали много и добросовестно. Конечно, нельзя забывать, что Южная Корея мастерски воспользовалась геополитическим раскладом того времени. Правительство в Сеуле всегда подчеркивало, что страна находится как бы на передовой холодной войны, и потому США и Япония должны ей помогать. До середины 1960-х Южная Корея была одним из главных получателей американской помощи. Экономический рывок произошел бы и без нее, но страна не прыгнула бы так далеко. Кроме того, благодаря особому геополитическому положению Корея смогла выйти на рынки Японии и США. До недавнего времени эти страны были главными торговыми партнерами Кореи, и лишь недавно на первое место вышел Китай.
Тем, кто побывал в современном Сеуле, трудно представить себе, что 50 лет город был одно- и двухэтажным. Когда и как появился замысел преобразований, сделавших страну неузнаваемой?
Вы правы, первые многоэтажные жилые дома в Сеуле начали строить в конце 1962 года. И были они по сути теми же «хрущевками», причем не лучшего качества.
Однако замысел модернизации возник не 50 лет назад, а гораздо раньше. Последние 150 лет в истории восточноазиатских стран — это сплошные попытки трансформации, попытки догнать Запад. С середины XIX века интеллигенция и значительная часть элит региона стали говорить себе и своему народу: «Смотрите, с Запада пришли могущественные, непонятные люди и делают с нами, что хотят». Самоощущение элит Восточной Азии в середине XIX века было примерно как у землян в «Войне миров» Уэллса. Сначала они осознали собственную военно-политическую беспомощность перед лицом западных броненосцев и пулеметов, а затем, конечно, встал вопрос «что делать?». Заметим, что фундаменталистские призывы вернуться к заветам старины, к древнему благочестию спросом не пользовались. Тех, кто говорил: «Если мы будем тщательно изучать Конфуция, то никакие заморские пулеметы с броненосцами нам не страшны», — конечно, в Восточной Азии тоже хватало, но они очень быстро оказались отброшенными на обочину истории.
Какие же ответы звучали на вопрос «что делать»?
По сути было два ответа. Первый — пытаться закупать технологии, создавать изолированные анклавы современной (в первую очередь военной) промышленности, оставляя общество неизменным. Такую «политику самоусиления» проводил Китай — с 1860-х и до японо-китайской войны 1894—1995 годов. Война продемонстрировала, что нельзя пересадить технологии, ничего не меняя в обществе. Похожие попытки предпринимались и в других странах региона, но тоже без успеха.
Другой ответ — японский: не столько технические новшества, сколько радикальные реформы и экономики, и общества в целом, по решительности не уступающие петровским преобразованиям в России. Подход был таким. Если мы хотим сохраниться как Япония, то нам надо стать другими японцами. Мы должны заимствовать с Запада не только технологии как таковые, но также науку, культуру, образование, методы организации экономической жизни, государственное устройство. Только так мы сможем сохранить нашу государственую независимость и нашу культуру, пусть и в несколько ином виде. Как мы знаем теперь, японский вариант оказался выигрышным, в итоге к нему все страны региона и пришли — только разными и порой очень извилистыми путями.
Какими были эти пути?
Несмотря на все попытки, до 1945 года экономическая модернизация в регионе удалась только Японии. Поэтому можно сказать, что первая волна модернизации захватила только эту страну. Потом Япония ввязалась во Вторую мировую войну, проиграла ее, но к началу 1960-х опять встала на ноги.
А самое интересное в Восточной Азии начинается после войны. Страны региона были тогда страшно бедны — беднее, чем Индия или Индонезия, беднее даже, чем некоторые страны Африки. Вторая волна успешной модернизации охватила Тайвань, Южную Корею, Сингапур и Гонконг. Все эти государства в 1945 году выбрали западную модель экономики, но не классическую, а с большой долей государственного капитализма. В основе своей они были диктатурами, несмотря на все разговоры о демократии, которые им приходилось вести (во многом, чтобы понравиться Вашингтону). Диктатура развития (см. «врезку») на Тайване и в Южной Корее — это период с конца 1950-х до конца 1980-х годов. В Сингапуре похожая система существует и поныне, но там ситуация специфическая: город-государство.
Третья волна модернизации поднимается в Восточной Азии в начале 1980-х. Страны, которые начали успешный рост тогда, — те же диктатуры развития, но внешне упакованные в иную идеологическую оболочку. Это Китай и Вьетнам, то есть страны, которые после Второй мировой войны выбрали советскую социалистическую модель, но со временем убедились, что она недостаточно эффективна. Эти две страны и ныне используют социалистическую фразеологию, хотя на деле строят именно капитализм, причем гораздо более жесткий, чем тот, который строили их предшественники по модернизации — «официально капиталистические» Южная Корея и Тайвань 1970-х. Скажем, экономическое и социальное расслоение в нынешнем Китае несравнимо выше, чем в Южной Корее 40 лет назад. Вся официально-коммунистическая риторика сохраняется исключительно ради политической стабильности. Вырабатывая стратегию своего развития, и Китай, и Вьетнам сознательно копировали Тайвань и Корею, правда, особо этого не афишируя.
То есть план модернизации просто переносили из одной страны в другую и даже из одной идеологии в другую?
Ну, коммунистическая идеология в Китае — не более чем декоративная упаковка. Если там есть какая-либо идеология вообще, то это — государственнический национализм, от всяких марксизмов-ленинизмов очень далекий. Механика же была схожей, ведь везде перед элитами стоял вопрос: как построить все из ничего? Поскольку регион беден природными ресурсами, то единственная экономическая опора реформ — рабочая сила. Неприхотливая, поначалу не очень квалифицированная, но в высшей степени дисциплинированная. Вдобавок население этих стран любит учиться, я бы даже сказал — немного подвинуто на учебе, и потому люди со временем осваивают довольно сложные технологии.
Сначала Япония, потом Тайвань с Южной Кореей, а сейчас Китай с Вьетнамом действовали по одной схеме: ставка на рабочую силу, на превращение страны в огромную фабрику, которая ввозит из-за границы сырье и отправляет на экспорт готовую продукцию. А детали разнились, конечно. В 1960-е годы корейская элита была еще в основном японской выучки. Практически любой влиятельный человек в Корее 1960-х, будь то министр, крупный чиновник, профессор университета, был выпускником японских учебных заведений. Японский язык для них был практически родным, Японию они знали великолепно. Кстати, Корея и Япония весьма схожи по своим историческим и культурным ценностям, сопоставимы по размерам, имеют высокую плотность населения, бедны природными ресурсами. Поэтому решение повторить путь преуспевающего соседа было вполне логичным. Раз у Японии получилось, то почему бы и нам не попробовать? А какие у страны могли быть варианты? Единственный альтернативный путь — насаждаемая тогда в Северной Корее и Китае политика автаркии, пресловутый революционный «дух опоры на собственные силы», попытки делать своими силами все, от иголок до тепловозов. Когда рабочие Пхеньянского элеватора сделали тепловоз, об этом в северокорейских газетах писали как об очередном триумфе «духа опоры на собственные силы», но легко представить себе, каким было качество этого тепловоза.
Почему с теми же геополитическими ресурсами и тем же самым народом ничего не получилось у предшественников Пак Чжон Хи?
Для Кореи 1950-е стали потерянным десятилетием. Тогдашний правитель Ли Сын Ман был больше озабочен сохранением собственной власти и объединением страны, чем модернизацией и экономическим ростом. Там была и гражданская война, так что Ли Сын Мана нельзя обвинять во всем. Ему на смену и пришел Пак Чжон Хи. Его правление было авторитарным и иногда довольно жестким. Он был диктатором, но при этом диктатором-бессеребреником и блестящим организатором (см. врезку «Личность диктатора»).
Как у Пак Чжон Хи складывались отношения с бизнесом?
Схема может показаться знакомой россиянам. По сути, людей назначали олигархами. Поскольку нужно было превратить страну в огромную фабрику, которая отправляла бы продукцию за рубеж, очень многое зависело от развития экспорта. Чтобы способствовать этому, было решено сделать ставку на крупные фирмы и выращивать их вручную. Тогдашнее руководство страны выбрало несколько десятков перспективных людей из числа средних и крупных предпринимателей. Им обещали режим наибольшего благоприятствования при условии, что они будут выполнять правительственные указания, в первую очередь — наращивать объемы экспорта, даже в ущерб прибыли. Так сформировались корейские чэболь — огромные многопрофильные концерны, находящиеся в семейной собственности и ориентированные в основном на внешний рынок. Это были огромные организации — в 1980 году продажи 10 крупнейших чэболь равнялись половине ВНП страны.
На первый взгляд эта схема кажется неэффективной и подверженной коррупции. Однако в Южной Корее особой коррупции не было. Пак Чжон Хи откатов не получал, а в правительстве хоть и случались коррупционные скандалы, но сравнительно скромных масштабов. Чиновники или вовсе не требовали свою долю, или брали, но умеренно, а бизнес, в свою очередь, не заявлял никаких особых политических претензий. Сейчас в стране коррупция есть, но чиновник, взявший деньги, обычно выполняет свои обязательства. Кроме того, на низовом уровне человек с коррупцией почти не сталкивается. Мне иногда приходится иметь дело с людьми, занимающимися в Корее мелким бизнесом. Они говорят в один голос: большие взятки существуют где-то в заоблачной дали, там, где распределяют заказы на супертанкеры и решают вопросы о расположении автомобильных заводов. На своем уровне — скажем, небольшой сети ресторанов, никто никому ничего не платит.
Фигур типа Березовского или Ходорковского в Южной Корее не появлялось. Бизнесмены приняли правила игры, согласно которым страной рулят не они. Помнится, один бывший крупный чиновник на вопрос о том, как относились главы чэболь к Паку ответил: «Они его уважали и боялись — до дрожи в коленях».
Кстати, социальный лифт работал, в основном новая элита вышла из низов старых привилегированных классов. Типичный крупный предприниматель 1960—1970-х, хозяин-основатель чэболь, был сыном среднего предпринимателя колониальных времен и, скорее всего, внуком помещика. Впрочем, были среди южнокорейских магнатов и выходцы из простонародья; например, основатель Hyundai Чон Чжу Ён — сын небогатого крестьянина. Тайвань пошел по другому пути. Здесь сделали ставку на свободный рынок, а не на ручное управление: пусть, мол, у нас будет свободная конкуренция, пусть выживают сильнейшие, они потом вырастут и выйдут на мировой рынок. Сейчас видно, что сработали оба варианта, но южнокорейский — лучше. Условно говоря, Южная Корея сейчас лет на десять опережает Тайвань. Решающую роль, пожалуй, сыграло то, что в силу своих масштабов чэболь с очень ранней стадии, с начала 1970-х, могли развивать масштабное производство — огромные верфи, автомобильные заводы, металлургические комбинаты. У «естественных» тайваньских фирм такого не получалось.
Предприятия выросли не сами по себе, а с помощью государства. В каком виде она предоставлялась?
Были и государственные льготные кредиты, и «добывание» зарубежных контрактов, и техническая помощь. С конца 1960-х южнокорейские фирмы активно занимались строительством, и крупные подряды на строительство, а также кораблестроение часто добывались по правительственным каналам. Если предприятия брали кредиты на внешнем рынке, государство выступало их гарантом. Как у Южной Кореи в целом, так и ее фирм всегда был высокий кредитный рейтинг, и правительство об этом всячески заботилось.
Наконец, государство много вкладывало в инфраструктуру, возводило объекты, которые частному бизнесу было не поднять. Классический пример — великолепная сеть скоростных дорог, которую начали прокладывать в конце 1960-х, когда в Корее практически не было автомобилей, и на которой сейчас держится весь транспорт страны. Только одно шоссе Сеул — Пусан обошлось в четверть годового госбюджета, и строили его на государственные деньги. Оппозиция, кстати, критиковала затею и говорила, что по этим дорогам будут ездить одни воловьи упряжки.
С другой стороны, в стране не было социального обеспечения. Нет его, по сути, и сейчас, если не считать субсидируемой медицины. Все социальные расходы возложили на семью. Это позволяло держать налоги на низком уровне.
А как повышали уровень технических знаний?
Даже в 1950-е годы нищая Корея отличалась высоким для такой бедной страны уровнем образования. Затем началось стремительное развитие образования, особенно высшего. Многие корейцы учились за границей, причем до начала 1980-х годов, когда мало кто мог поехать за свой счет, правительство отбирало лучших студентов и тысячами отправляло их за рубеж на казенные деньги. Сейчас 1,2 млн корейских студентов учится в Корее, а еще около 150 тысяч — за границей. В корейских фирмах довольно много иностранных технических специалистов. Притом, как ни странно, среди них немало русских инженеров — 2—3 тысячи. Кроме наших обильно представлены индийцы и китайцы.
На каком языке они общаются? Знают ли в Корее английский язык?
Русским, которые впервые попадают в Сеул, кажется, что население плохо владеет английским языком. А корейцы, которые приезжают в Россию, в свою очередь считают, что русские плохо его знают. Дело в том, что их и наше знание языков различается. Людей, свободно говорящих на английском, в Корее на удивление мало. Это связано и с традициями преподавания, и с особенностями самого языка: иная структура предложения определяет другой порядок мышления (по той же причине европейцы редко бегло говорят по-корейски).
Однако практически каждый выпускник корейского вуза — а сейчас высшее образование получает около 85% всей молодежи — может по-английски без словаря читать тексты по своей специальности. Такого массового умения читать и понимать прочитанное на английском в России, думаю, нет.
Основным фактором рывка вы назвали наличие дисциплинированной и притом нетребовательной рабочей силы. Долго ли он действовал?
Этот фактор, как и негласные привилегии Южной Кореи, связанные с холодной войной, стал терять свою силу около 1990 года. Корейцы — по-прежнему дисциплинированные и квалифицированные работники, но трудятся они уже отнюдь не за три чашки риса в день. В Сеуле сейчас средняя зарплата составляет $2,5 тысячи в месяц. Поэтому вся легкая промышленность «убежала» из Кореи в Китай и страны Юго-Восточной Азии уже лет 20 назад, а сейчас за ней следует промышленность и тяжелая. Однако к началу 1990-х страна уже продвинулась довольно далеко, потому и сейчас темпы экономического роста высокие.
Какое сейчас отношение в стране к этим десятилетиям большого рывка?
Нельзя сказать, что в стране существует культ Пак Чжон Хи как отца и спасителя нации. Его очень уважают лишь правые, которые составляют примерно 20—25% населения. А вот другие 20—25% его ненавидят за то, что он подавлял свободу, демократию и профсоюзы, не давал рабочему классу защищать свои права и вообще был представителем сил глобализации и капитализма. У оставшейся половины отношение к Паку смешанное.
В Корее стремительно распространяется протестантизм. Имеет ли это какое-то значение для экономики?
Сейчас в Корее около 30% населения — протестанты. Католицизм проник в страну в конце XVIII века, протестантство — в конце XIX. Важно, что христианство пришло именно как часть модернизационного пакета. Это была не религия колонизаторов, а религия современного общества — общества, в котором есть телеграф, железные дороги, биржа, презумпция невиновности. Именно миссионеры создали те учебные заведения, в которых учились первые корейские инженеры, врачи, журналисты.
Протестанты всегда играли важную роль в движении за независимость. После 1945 года к власти в Сеуле пришли правые националисты, а они были в подавляющем большинстве христианами. Результат получился необычный: южнокорейское общество активно религиозное. Здешние протестанты — это почти треть населения страны — в высшей степени воцерковленные. Они соблюдают обряды, постоянно цитируют Библию, не сядут за стол, предварительно не помолившись.
Конфуцианство давно уже не играет особой роли, хотя какие-то конфуцианские обычаи сохраняются в быту, часто — как обряды культа предков. Считается, что они не противоречат христианским законам, так что их исполняют и протестанты. Буддистами называют себя немногим менее 30% населения. Фактически корейский буддист — это теист, то есть человек, который считает, что бог есть, но деталями особо не озабочен. Буддисты в храмы ходят редко, обрядов не соблюдают.
Что из корейского опыта применимо к России?
Увы, я полагаю, что опыт Восточной Азии в России неприменим. В Восточной Азии по ходу модернизации использовались такие механизмы, такие особенности восточных культур, каких в России просто нет. У нас нет дешевой рабочей силы, которая обеспечивала начало экономического рывка и в Корее, и в Китае — такой она была и в России, но этот «пул» израсходовали еще в сталинскую индустриализацию. Нет у нас масс людей, готовых работать за копейки и при этом соблюдать высокую технологическую дисциплину — то есть, если дать человеку гаечный ключ и сказать ему: заверни на 2,5 оборота, он ровно настолько и завернет. У нас нет такой бюрократии, нет такого отношения к государству. Корейская бюрократия не то чтобы была совсем неподкупной, но у большинства чиновников было сознание того, что они служат стране (отчасти конфуцианская традиция, я бы сказал). Все это не означает, что в России модернизация невозможна — она, может, получится даже лучше, чем в восточноазиатских странах (правда, я в этом сомневаюсь), но пойдет она точно по-другому.
Диктатура развития
На Тайване диктатура была однопартийной (и наследственной), в Южной Корее у власти были военные. Однако эти режимы обладали общими чертами. Это, во-первых, авторитаризм в политике. Реальную оппозицию подавляли, хотя некая декоративная демократия сохранялась: в стране проводили выборы и существовала «карманная оппозиция». Во-вторых, жестко пресекали любую демонстрацию народного недовольства, не допускали возникновения независимых профсоюзов (это считалось особенно важным, так как дешевизна рабочей силы была важным конкурентным преимуществом стран региона, особенно на первых порах). В-третьих, государство и на словах, и на деле свою главную задачу видело в экономическом развитии, достижении и удержании высоких темпов экономического роста. В-четвертых, ориентация на внешний рынок требовала трепетного отношения к иностранным инвесторам, которых холили и лелеяли, несмотря на то, что в стране господствовала абсолютно националистическая идеология — в целях, скажем так, мобилизации.
Личность диктатора
Пак Чжон Хи был человеком незаурядным. Сын бедного крестьянина, он стал сначала учителем, потом — японским офицером, дальше — коммунистом-подпольщиком, затем — одним из лучших командиров южнокорейской армии. Эти метания только кажутся хаотичными — на деле они отражали перемены симпатий и надежд образованных корейцев, которые лихорадочно искали подходящую стране стратегию развития. Пак Чжон Хи показал себя жестким и рациональным технократом, на редкость равнодушным к тем соблазнам, которыми богата жизнь диктатора, особенно в Азии (только женщинами очень интересовался, но и то больше — в последние годы, после гибели жены, которую убил северокорейский агент во время неудачного покушения на самого Пака). Ему хотелось — и удавалось — быть в курсе всего, но при этом он не вмешивался в работу подчиненных, обычно доверяя специалистам принятие решений. Кстати, необычная для страны такого типа имущественная однородность — во многом заслуга Пак Чжон Хи, который боролся со сверхпотреблением элиты. Известен случай, когда он устроил выволочку своим олигархам за то, что их жены стали появляться на публике в дорогих украшениях.