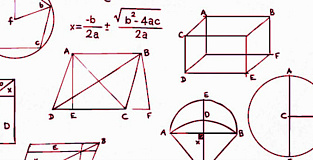читайте также
Дискуссию о «сложном человеке» начали культуролог Даниил Дондурей и режиссер Кирилл Серебренников. Они призвали государство воспитывать в людях «сложность», поддерживая современное искусство. Через какое-то время в нашумевшем докладе Института современного развития прозвучал тезис о том, что для модернизации экономики есть серьезное препятствие — слабость человеческого капитала. Нам показалось, что в разных кругах неожиданно заговорили об одном и том же: в России не хватает умных, творческих и независимых людей. Разобраться, действительно ли это так, что такое «сложный человек», правда ли, что таких у нас становится все меньше, и, если да, чем это грозит обществу и бизнесу, — дело ученых, политиков, деятелей образования. «HBR — Россия» провел виртуальный круглый стол, предложив его участникам ответить на одни и те же вопросы.
Cтоит ли какая-то научная реальность за самим понятием «сложный человек» или это просто метафора?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. В психологии давно существует понятие «когнитивно сложный человек». Есть люди почти двумерные: они делят всех и вся на хороших и плохих. А есть те, кто любое событие воспринимает очень многообразно — с разных сторон. Конечно, они сложные. Замечу сразу, что когнитивно простые отличаются высоким уровнем агрессивности, низкой толерантностью, нетерпимостью. У термина «сложный человек» — очень четкая психологическая подоплека. Кстати, когнитивная сложность не дается от рождения. Это часть воспитания — дети всегда эгоцентричны, и постепенно они учатся (не все, впрочем, многие такими и остаются) децентрализоваться и видеть с разных углов зрения. Безусловно, не всегда мы мыслим многомерно, но сама способность — есть результат развития, образования и воспитания.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Но «сложный человек» — это и метафора, которая, наверное, пришла из литературы и философии. Способность к индивидуальной сложности и непредсказуемому поступку отличает человека от микробов и молекул. Социология этим не занимается, потому что часто хочет быть точной в той же мере, что науки естественные.
БОРИС ДУБИН. В нашей стране идею сложности человека последовательно продвигал философ Мераб Мамардашвили. Он не раз говорил, что культура — это и есть культивирование сложности. К сожалению, в советской России не понимали и не занимались этим.
Правда ли, что сейчас в России происходит «оглупление» общества? Каковы его причины и в чем опасность?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Это действительно так, и тут две причины слились вместе. Одна — это мощнейшая деградация образовательной структуры, а вторая — отъезд огромного количества людей, которые составляли наш «культурный слой».
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. При открытых границах сложные люди попросту уезжают из страны, им тошно в обстановке несвободы и оглупления.
БОРИС ДУБИН. В процессе «оглупления» задействованы очень мощные социальные механизмы. Даже если не углубляться слишком сильно в историю, были семьдесят лет советской власти, в том числе десятилетия жесточайшего террора против разных групп и слоев населения, в том числе — самых интеллектуально подготовленных. Но дело не столько в репрессиях, сколько в направленности ведущих институтов советского, а потом постсоветского социума. Они прежде всего силовые, то есть отталкиваются от модели иерархии, подчинения, приказа и исполнения. Институты, отвечающие за воспроизводство человеческого капитала, — образование и культура — получили установку на упрощение. Ведь еще до того как большевики пришли к власти, один русский философ говорил о Ленине: «Вот перед нами представитель лукавого упростительства». Установка на упрощение (теперь уже не столько лукавая, сколько циничная) доминирует до сих пор.
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Оглупление происходит в общеевропейском или даже общемировом масштабе, и началось оно с «восстания масс» в Европе. У идеи, что человек должен быть сложным и парадоксальным, а не «черно-белым», все меньше приверженцев. Сейчас на Западе прожить жизнь надо так, чтобы тебя не упрекнули в неполиткорректности. А у нас вообще господствует мракобесие. Вот некий академик Петрик соблазнил Бориса Грызлова потратить миллиарды на какую-то чепуху, вроде спасения от радиации. Покуда Грызлов просто болтал — было еще ничего, хотя и тогда казалось: прикрыть бы эту Думу и воздух станет чище. Но он поддержал многомиллиардную глупость — и это уже грозит катастрофой. Из-за того, что наука не в почете и не финансируется, настоящие ученые разбежались. Все, кого я знаю — а я происхожу из научной семьи, — либо переквалифицировались, либо уехали за границу.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Действительно ли становится меньше умных людей — оценить непросто. То, что мы наблюдаем, — это сокращение интеллектуальных телепередач, засилье развлечений и юмора. Поэтому кажется, что «умного» все меньше и меньше. Но давайте подумаем, что такое глупость. В социальных науках и философии сложились два варианта ответов на этот вопрос.
Андре Глюксман — в 1968-м он участвовал в студенческих бунтах, а потом стал критиком радикализма, — считал, что конфликт между умными и глупыми — важнейшее из противоречий общества. Его книгу «La betise» («Глупость») вообще можно свести к одному тезису: социализм есть торжество глупости. Если встать на эту позицию, то оглупление — наследство той цивилизации, которую мы строили предыдущие 70 лет. Это один диагноз.
Другой француз, Алексис де Токвиль, в своей книге «Демократия в Америке», написанной 180 лет назад, наоборот, считал, что глупость присуща демократии. Его вывод такой: если вы хотите видеть великие достижения человеческого духа — вам нужна монархия или аристократия, если же ищете порядка и гарантированного куска хлеба с колбасой — вы выбираете демократию, но тогда не расстраивайтесь, что вокруг господствует посредственность. Если следовать логике Токвиля, снижение престижа интеллекта, наоборот, связано с тем, что социализм ушел, и мы живем в прекрасном новом обществе.
Но большой опасности в оглуплении нет, потому что, после того как демократическое общество встает на ноги, новые поколения требуют развития, большего, чем было у их отцов и матерей. Пока этого не случилось, кому-то в новом демократическом мире просто очень скучно, а кому-то даже противно.
Сможет ли общество восстановить утраченный интеллектуальный капитал и культурный багаж? Для этого надо обеспечить хотя бы воспроизводство. Но, если в стране не останется ни физиков, ни философов, у кого будут учиться наши дети и внуки?
БОРИС ДУБИН. В общем, ситуация начинает напоминать известную поговорку: «поздно пить боржоми, когда почки уже отпали». Я не думаю, что совсем уж поздно, но отчасти все-таки соглашусь с диагнозом Мамардашвили, который говорил: «Возможно, в России произошла антропологическая катастрофа». Он имел в виду крах идеи сложности человека, сложившейся в Европе.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. У общества нет средств на это восстановление, как нет у него средств на ассоциации гражданского общества. Средства есть у государства, но просить его бороться с оглуплением — бессмысленно. Чиновникам кажется, что у них есть дела поважнее. Поэтому надежда — на умный бизнес, заинтересованный в продолжении интеллектуальной жизни в России и в ее интеграции в международную среду. Кстати, наверное, поэтому именно ваш журнал озаботился данной темой. Ведь ваша аудитория соединяет бизнесменов и интеллектуалов.
А есть ли проверенный способ взращивать людей, способных творить и мыслить самостоятельно? Занятия какими науками в наибольшей степени прививают сложность?
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. Я не знаю способов селекции личностей. Ясно, что в наших вузах главному не научат. Сейчас гораздо важнее объяснять людям, что интерпретация событий на «Первом канале» — не единственно возможная, надо заставлять их выслушивать противоположную точку зрения — скажем, грузинскую. А у нас превалируют родоплеменные отношения: раз свой, значит, всегда прав.
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Все науки способствуют развитию сложности. Физика, химия — казалось бы, они далеки от человеческих проблем. Ну, во-первых, они объясняют, как устроен мир божий, а во-вторых, точные науки прививают научную честность. У гуманитариев нет такой научной строгости, зато хорошо подвешен язык, что в жизни никому не мешает. Разные логические и философские упражнения дают привычку думать. Но честность вырабатывается в точных науках.
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Никакого проверенного способа нет, но система образования должна воспитывать сложность. Известно, что около десяти нобелевских лауреатов окончили одну и ту же будапештскую гимназию и учились у одного учителя. Конечно, и учителя должны быть творческими и неординарными. На мой взгляд, математика и естественные науки больше способствуют развитию нестандартного и самостоятельного мышления. А в гуманитарных дисциплинах больше распространено интеллектуальное иждивенчество.
БОРИС ДУБИН. Мне кажется, что дело здесь не в наборе дисциплин, а в осознании человеком проблем и в серьезной, и даже страстной заинтересованности в их решении. Проблем твоих собственных или проблем других людей, похожих или не похожих на тебя. В нынешнем российском обществе совсем немногие задумываются о серьезном. Нет и общего языка для ответственного диалога. Российское общество поэтому и распадается, дробится, теряет общие ориентиры.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Трудно говорить, чему и как учить в целом. Я не специалист в начальном образовании, но вот что мне бросилось в глаза: мы с семьей жили во Франции и в России, и дети
ходили и во французскую, и в российскую школы. Сначала, разумеется, кажется, что во французской школе развивают способность к дискуссии, а у нас сплошная зубрежка. Там от детей требуют индивидуального мнения с 5—6 лет, у нас же главное — повторить авторитетное суждение учителя. Но я не могу сказать, что одна система лучше, чем другая. У каждой свои преимущества. Дети лучше научились математике в российской школе, а находить слабую сторону в аргументах собеседника — во французской. Но сложной личности нужны оба этих качества: и развитый интеллект, чтобы понимать сложные формулы и построения, и способность подвергать все сомнению, взвешивать «за» и «против».
А в высшем образовании?
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Лучше всего человек развивается, если окунается в разные культуры. Можно многое понять, исходя из контраста между странами, например, поучившись и в России, и в Америке, но можно и на контрасте тех двух культур, что поделили современную науку, — естественнонаучной и гуманитарной. Последний большой эксперимент в образовании Франции — создание единого бакалавриата по теории физики и теории политики. Учат, не делая упора ни на одно, ни на другое, чтобы у подростка не возникло ранней самоидентичности — естественно-научной или гуманитарной — и чтобы ему приходилось самому разрешать конфликт между двумя разными подходами. Один раз я разговаривал с Грефом, и он сказал, что лучшие из его решений и сам стиль их принятия — результат давнишней стажировки в Церне. Смешение двух культур и двух специальностей (он по образованию юрист) было для него очень значимым.
Может ли взрослый человек как-то развиваться в этом направлении, научиться быть сложным?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Скажем, Дондурею и Серебренникову нужен зритель, который легко мог бы воспринять авангард. Таких очень мало осталось. Но это не авангард такой «непонимаемый», просто этому надо учиться. Купец и меценат Сергей Щукин, чья коллекция легла в основу собрания импрессионистов Пушкинского музея и Эрмитажа, сам себя воспитывал Гогеном. Повесил его картины и постоянно на них смотрел, и они ему вначале не нравились. Но чтобы учиться, нужно иметь некий «бэкграунд»: если человек не читал Чехова, Достоевского, Камю, вряд ли он сможет что-то понять в театре абсурда.
Я знал высоких государственных чиновников, которые отводили душу в коллекционировании. Один собирал книжные миниатюры и выступал с докладом об этом на заседании общества коллекционеров. Он волновался больше, чем на коллегии министерства.
OЛЕГ ХАРХОРДИН. Когда человек попадает в сильную экзистенциальную передрягу, он начинает из нее выпутываться всеми способами. Можно полжизни читать глянцевые журналы, но потом прийти к серьезным книгам. Трудно начать учиться чему-то новому, когда тебе 35—45 лет, потому что работа оставляет мало времени. Но бывает, что и компании дают сотрудникам такие возможности — организуют занятия, способствующие личностному развитию. В России нет особых препятствий для самообразования, разве что обычное давление капитализма: нет времени, чтобы почитать книгу или поговорить с друзьями о том, что прочел.
А какое место сложные люди занимают в обществе? Они всегда стремятся в творческие профессии? Как им удается встроиться в систему? Часто ли они становятся диссидентами?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Они есть во всяких профессиях, и в немалом количестве. Конечно, творческие профессии привлекают таких людей, там просто невозможно выжить примитивным. Но увлекаться чем-то и быть творческим человеком можно везде. Сейчас стало легче публиковать книги, и мы читаем огромное количество интереснейших мемуаров людей, которые прежде не думали быть писателями. Я знал человека, который всю жизнь проработал тюремщиком, но был
заслуженным деятелем искусств, потому что играл очень хорошие роли в народном театре. Параллельно писал работы об истории тюрьмы, о том, как кормили в тюрьмах — с XVIII века до наших дней. Потрясающие исследования — просто об изменении рациона. Он, конечно, слишком сложный человек для тюрьмы. Наверное, без этих побочных занятий он просто повесился бы.
И я совершенно не убежден, что они должны быть диссидентами. Можно очень скептически относиться к идеологии, при этом не отказываясь от своей работы. У сложных людей — сложные формы поведения.
Очень четко это просматривалось в судьбе физиолога Павлова. Вначале, еще в 1920-е годы, он прилюдно говорил ужасные вещи: что фашизм и коммунизм — это примерно одно и то же. Потом сменил тон и получил лабораторию Колтуши. Когда его спрашивали о причинах перемены, он объяснял так: я подумал было, что уже слишком стар, в науке ничего сделать не смогу и потому буду говорить, что думаю, а потом выяснилось, что мысли все идут и идут, и надо их реализовывать. Значит, надо подлаживаться под власть.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. Многие, к сожалению, становятся конформистами — и при этом прячут фигу в кармане и продолжают думать, как диссиденты. Осуждать их трудно. Будем считать, что их специально внедрили в систему для медленной подрывной работы.
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Сложный человек норовит останавливаться на каких-то таких профессиях, чтобы не просто сидеть «от звонка до звонка». Ему важен интерес. Такие люди способны самоорганизоваться во временный коллектив, в этакий интеллектуальный букет. Вообще в хороших делах люди объединяются. Со стороны это временами выглядит ужасно: когда идут съемки фильма, там может быть мат-перемат и сплошное угнетение, а получается очень хороший результат.
Быть может, для сложных людей имеет смысл устраивать заповедники, чтобы частично ограждать их от тягот реальной жизни?
БОРИС ДУБИН. Ну, кто будет содержать их в заповедниках, где эти заповедники и кто будет платить тем, кто их охраняет? Это же принцип «шарашки» — собрать все лучшее, чтобы сделать хотя бы что-нибудь приличное.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. У Сталина это хорошо получалось. Думаю, что предназначение сложных людей — быть среди нас и постоянно вовлекать общество в серьезные дискуссии, чтобы оно становилось все более и более сложным. «Сложные люди» должны отвечать за непростые процессы, которые происходят в стране.
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Ни в коем случае не в резервациях. Дело в том, что такие люди заразны. Их надо пускать в народ, чтобы они заражали окружающих, потому что они вокруг себя «разлагают» самую монолитную среду.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Недавно вышло большое интервью Суркова в «Ведомостях», где он говорит о российской Кремниевой долине и о том, как в этом анклаве будет производиться потрясающий интеллектуальный продукт. Если туда поселить только генерирующих идеи интеллектуалов, которые остро чувствуют прелесть личных достижений, то атмосфера будет не лучшей.
Мы в университете в какой-то момент пытались нанимать только профессоров с западными учеными степенями. Искали людей с определенным рейтингом цитируемости на Западе. Но модель не сработала, потому что составить футбольную команду из одних звезд невозможно. Если кругом только виртуозы, они не выстраивают нормальную кооперацию — каждый предполагает, что другие должны немного расступиться и обеспечить ему поддержку.
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Сложному не так легко ужиться с другим сложным. Не все из них добренькие, и у каждого своя правда. В науке и в искусстве мы видим повсеместно: такой-то не разговаривает с таким-то. У Достоевского были натянутые отношения с Тургеневым.
Но будет ли «сложный человек» самим собой в организации, где неминуемо существует иерархия? Может ли он в принципе проявить себя, будучи рядовым сотрудником?
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Я думаю, что коллектив, конечно, «сложного человека» скрутит, если только тот не наделен в достаточной мере харизмой, силой воли и даром убеждения. Качествами не
интеллектуального плана, а волевого. Если он умеет еще и организовать, то есть всех построить и притом не подавить, а наоборот, создать иллюзию, что все думают самостоятельно, работают на общее дело. Иначе его поглотят или выгонят — как белую ворону.
БОРИС ДУБИН. Жизнь сейчас устроена так, что почти все работают в организациях. Я думаю, что зло даже не в иерархической структуре, а в типе отношений. Если это «шарашка», где человек лишен всяких прав, — не приходится надеяться, что вырастет что-то достойное. Определенные типы организаций способны изувечить человека, даже чрезвычайно талантливого и самостоятельного.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. Иерархия иерархии рознь. В Германии порядок, вроде бы, сильнее нашего. Однако идиотский приказ там бы просто проигнорировали, даже во время войны. Участники Второй мировой говорили: «Когда мы видели, что русские идут на пулеметы и мы косим их сотнями-тысячами, мы думали: у нас такой приказ никто бы не отдал, потому что его никто выполнять бы не стал». У офицеров вермахта оставалось право думать самостоятельно. Советская иерархия доходила до того, что подчиненный был низведен до уровня механизма. Долгие годы господствовала диктатура, которая не позволяла людям друг от друга отличаться. Поэтому и «мерседесы» делают немцы, а не мы.
А если говорить о бизнес-культуре: в крупную организацию, скажем, нефтяную или газовую просто по законам статистики неминуемо попадают сложные люди. Каково им там?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Трудно. Отчасти потому что у нас первая генерация настоящих бизнесменов и управленцев, и они не понимают, что не надо калькировать все, что предлагается. Например, тренинг по командообразованию. Для многих людей, особенно сложных, это просто уродство. Они меня спрашивают: «неужели это и есть психология?» Потому что они сложны, им эти крики «банзай» по утрам неинтересны. Но огромное количество американских компаний понимают проблему сложности. Я знаю профессора, который преподает бизнесменам философию. Он немного буддист по складу и считает, что для ведения бизнеса важно понимать мировоззренческие проблемы.
Или вот помню, как наших журналистов поражало, что Билл Гейтс большую часть наследства завещает на научные и благотворительные нужды. А он отвечал, что не хочет лишать своих детей удовольствия реализоваться самому. Но ведь и сам Гейтс — человек сложный, его интересы очень разнообразны. У большого количества людей бизнеса много интересов. Кто-то собирает коллекцию картин — сам, а не с помощью консультантов, и не потому, что это модно. Может, многие пишут мемуары, но мы узнаем об этом только после того, как они умрут.
И чем раньше руководители именно больших корпораций, в которых рутинной работы много, поймут, что им нужно создавать дополнительные сферы притяжения для людей, не навязывать, а помогать им найти хобби, тем их бизнес будет более устойчивым. Сотрудники ценят, что здесь они могут, допустим, играть в квартете, а в другом — никто помещения не даст. Повышается не только лояльность и безопасность, но и работоспособность. Меньше затрат на полиграф, на службу безопасности, на срывы сотрудников. Ведь всякое переключение — это отдых.
OЛЕГ ХАРХОРДИН. Человек, получая высшее образование, вряд ли все пять лет учебы настраивался на то, что он станет офисным планктоном. Поэтому вначале происходит, как говорят психологи, когнитивный диссонанс. И все-таки это не принципиальное зло и не главный конфликт в жизни. Мыслить можно и внутри иерархии. Но Хайдеггер когда-то заметил, что у деловых людей не хватает времени остановиться и задать себе важные вопросы. «Дело стало просто деланием». В наше время это постоянные звонки мобильника и авралы, вызванные какими-то сбоями. Только высшие менеджеры могут позволить себе вольность — я читал интервью, по-моему, с президентом Deutsche Bank Джозефом Акерманом: он говорил, что включает мобильник на 15 минут утром и вечером, чтобы прочитать смс и прослушать автоответчик, и ему достаточно. Пять лет назад, когда я еще не занимался администрированием в университете, я мог принципиально не покупать себе сотовый телефон. Но как только ты становишься начальником, ты оказываешься рабом дисциплины менеджера.
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. Подозреваю, что у каждого есть своя отдушина. Хочу заметить, что многие успешные бизнесмены — сложные люди. Именно они создавали крупные компании и корпорации и закладывали основы экономики во всех развитых странах. Проблема в том, что в России они вынуждены тратить большую часть энергии и способностей не на творческое созидание и развитие, а на то, чтобы как-то вписаться в систему чиновничьего капитализма.
И как массы относятся к тем, чьи духовные запросы превосходят их собственные: с опаской, уважением или с восхищением?
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Все зависит от того, как общество выстраивает это отношение. Американцам объясняют, что при виде нобелевского лауреата надо оторвать зад от кресла. Дворники его начинают узнавать — на короткое, правда, время, ему прощают чудачества и т.д. Но если нет навязывания сверху, то нет и почтения.
У нас с этим хуже — из творческих людей известны только представители актерской профессии. А в советское время мошенники выдавали себя за «закрытых физиков». То есть отношение масс — это не только непосредственная реакция простого человека на что-то выдающееся. Он, может, и не понимает, выдающееся оно или нет, но уважает того, кого уважает общество. Если ему объяснят, что умным быть хорошо, будет уважать умных. Если вокруг слышится, что в Академии наук — мошенники, лузеры и проходимцы, то рейтинг этого учреждения будет недалеко от Петровки, Бутырки и т.д. Когда-то считалось: в очках и в шляпе — значит классовый враг. Потом, после 1945 года, стали говорить: эти очкарики близки к чему-то ядерному — их сразу уважать стали.
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Но и в Америке специально продвигать ученых и писателей, делать из них знаменитостей никто не будет. Разве что если неожиданно их изобретение оказывается важным для решения какой-то общественной проблемы. И тогда говорят: ничего себе, сидел 40 лет человек, занимался своей работой и вдруг нашел гениальное лекарство или способ одолеть бедность путем микрокредитов, или понял, как бороться с преступностью в Южном Чикаго. То есть популяризацией ученых занимается сама жизнь. Но есть и французская модель: нескольких человек объявляют совестью или мозгом нации. Их приглашают на дебаты, которые показывают по телевизору, и вся Франция смотрит. В обществе есть позиция публичного интеллектуала, который комментирует все и вся. В Америке этого нет. Тем не менее, ученые со всего мира с радостью перебираются в США. Потому что быть одним из 20 интеллектуалов на французском телевидении — одно дело, а когда десятки тысяч ученых имеют возможность спокойно и обеспеченно работать (даже в окружении масс, которым во многом наплевать на то, что они делают) — это другое.
БОРИС ДУБИН. В России люди не в обществе живут, а в каких-то совершенно других образованиях. Есть круг близких, здесь свои законы, отношения персонализированные, исключительно личные. Есть работа — на государство или на частную компанию со своими правилами, там нужно так или иначе вписаться, за хорошие деньги или за плохие деньги. Это уже другая степень свободы и другие правила взаимодействия. И есть, наконец, весь остальной непонятный мир чужих, где никто не знает, как себя вести, не понимает, у кого это можно узнать, и даже не считает нужным об этом знать. Туда лучше вообще не высовываться — легко схлопотать по физиономии. Вообще нельзя говорить об отношении общества к чему бы то ни было — это же не индивид, а многомерная система взаимодействий.
Какие меры ведут к просвещению? Как повысить престиж знаний и творчества?
ОЛЕГ ХАРХОРДИН. Не надо изобретать велосипед. Существует множество способов показать образцы интеллектуально и духовно насыщенной жизни. Надо всего лишь их найти и интересно представить в театре, кино и книгах. Ректор МВТУ рассказал мне, что главным фактором, привлекающим студентов в его университет, был и остается фильм «Девять дней одного года». Ничего сопоставимого с этим за последние десять лет не появилось.
СЕРГЕЙ ЕНИКОЛОПОВ. Школа и университет объясняют, чего достиг тот или иной человек. Но в последнее время наука стала какой-то безымянной. Люди не знают даже имен своих благодетелей. Вот кто, например, изобрел контактные линзы? А это конкретный человек, я его знал, это химик Отто Вихтерле, чешский Сахаров, соавтор декларации Пражской весны. Никто его имени не знает, а какое количество людей он облагодетельствовал. Образование играет гигантскую роль в том, как будут расставлены приоритеты и акценты. А если мы будем видеть, что есть только два способа прославиться — стать политиком и хамить с трибуны или быть кинозвездой — тогда сложным людям нет места. Но если нам покажут, что политик занимается своим делом, что бизнесмен — сложный, а не тот, «кто мать родную за доллар продаст», тогда общество станет другим.
А кто может в обществе стать агентом влияния, чтобы маятник качнулся в другую сторону. Как это, в принципе, могло бы произойти?
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. Вспомните перестройку. До нее казалось, что все выбито, что в народе ничего не осталось. И вдруг все волшебным образом преобразилось. Какие были тиражи у «Нового мира» — три миллиона! Какие интересные появились авторы, какие толпы ходили на демонстрации. Даже лица изменились. Откуда-то высыпали на улицы люди с лицами. И было все востребовано хорошее, качественное, интеллектуальное и так далее. Сейчас идеи свободы, идеи демократии, по большому счету, накрылись медным тазом. Совок всплыл и все захлестнул, пошла распространяться черная плесень, и все притихли. Но ведь силы-то эти, они где-то таятся.
Сейчас наше общество совсем дикое, чиновное воровство такое буйное, как при глухом царизме. И непонятно, где находится полагаемый орган, который мог бы переломить существующее положение дел. Тиран, наверное, нужен. Цыкнуть как следует, начиная сверху. Наш народ тиранов любит. Восхищается: ух, Сарданапал какой! Надо же, голов сколько полетело!
БОРИС ДУБИН. Я думаю, что это процесс долгий, цивилизационный, в одно поколение он не вмещается. За год, два, даже за двадцать лет мало что сделаешь. Но если отложить еще на двадцать лет, то потребуется двести. Делать все равно нужно сегодня, хотя результаты будут, скорее всего, даже не завтра.