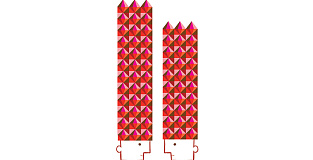читайте также
Как вы стали математиком и что для вас математика?
В три года я еще мечтал работать в зоопарке, а лет с четырех уже хотел стать ученым. А в 13 лет мы с Лешей Хохловым — ныне академиком, проректором МГУ, пошли в вечернюю математическую школу, а потом поступили во Вторую физматшколу. И тут я понял, что математика — это страшно красиво. В то время меня увлекала именно красота этой науки, а сейчас в занятиях математикой — как, впрочем, и в занятиях любой другой наукой — я вижу возможность увидеть замысел Творца. Фундаментальная математика, с другой стороны, это еще «игра в бисер», если вспомнить книгу Гессе, то есть вещь увлекательная сама по себе, так же как живопись, поэзия, литература. Математика, как и вообще фундаментальная наука, — это неотъемлемая часть культуры. При этом математике повезло, по сравнению, скажем, с поэзией.
От математики иногда бывает практическая польза, что происходит почти случайно. Но если оценить эту пользу за всю историю нашей науки, то эффект для человечества настолько колоссален, что его и посчитать нельзя. Когда-то физики говорили, что если бы человечество платило патентные отчисления за изобретение и исследование электромагнетизма, то вся мировая наука могла бы на это существовать тысячи лет — без дополнительного финансирования. Для математики это верно в еще большей степени — она в основе всего, что сделано людьми и чем мы пользуемся каждый день. Но для меня главная ее ценность не в этом. Математика изучает реальные объекты.
Я не придумываю и не конструирую математические сущности, я их открываю. Для меня число два или эллиптическая кривая ничуть не менее реальны, чем стул или стол, хотя эта реальность не физическая. Мы изучаем математические объекты: числа, множества, фигуры — которые нельзя потрогать, точно так же, как физики изучают электрон или кварки, которые тоже никто никогда не видел.
Вы вращаетесь в основном в математическом сообществе. Ощущаете ли вы, что у математиков голова устроена немного иначе, чем у остальных людей? Какие особенности вы видите?
Большинство математиков, хоть и выглядят зачастую странно, вполне нормальные люди, но со своими особенностями. У них есть специфика мышления, которая проявляется не только, когда человек занимается математикой, но и в жизни. Математика труднее обмануть, им труднее манипулировать. Ведь основное, чему учит наша наука, — уметь отличать верное от неверного, вероятное — от маловероятного, скорее всего правильное утверждение, но недоказанное — от строго доказанного. Такие умения полезны обществу в целом. Чем больше людей ими обладают, тем лучше. И, как правило, математики довольно умные. Они хорошо соображают и точно формулируют. Тут я не удержусь и вспомню разговор с одной американской дамой. Она высказывалась против школ для одаренных детей. Я слушал-слушал и, используя ее же аргументы, возразил, сказав, что умные люди в обществе — это меньшинство (minority). Их даже меньше, чем афроамериканцев или гомосексуалистов. Значит, политкорректность велит нам защищать их права. В частности, право получать такое образование, в котором нуждаются именно они. Так что математики — это особое minority.
И еще: математика требует преданности. Человек может стать математиком, если у него великолепные способности, или просто большие, или даже средние. Но он никогда не станет математиком, если не любит эту науку очень сильно. Я вижу много талантливых молодых людей, которые в какой-то момент пропадают с горизонта и в науку не возвращаются. Математика — тяжелое дело, большая работа, особенно в юности. И работа эта требует эмоциональной привязанности к объекту исследования. Для сравнения допустим, что вы взяли группу людей и начали всех учить слесарному делу. Через некоторое время в слесари выйдет большинство. С учеными так нельзя: их надо не только учить, но и отбирать: по способностям, успехам, любви к своему делу. Все понимают, что зарплата ученого, даже на Западе, скажем, вдвое меньше, чем у специалиста той же квалификации, работающего в коммерческой фирме. Хотелось бы думать, что люди, ради науки отказавшиеся от многого и занимающиеся столь прекрасным предметом, сформируют кристально чистое в морально-нравственном плане сообщество. Увы, это не так. Математики живут в обществе и не свободны от него. Они представляют собой разнообразнейший спектр человеческих качеств, политических взглядов, пристрастий и прочего.
Вы говорите, что математика — часть культуры. Есть ли какая-то национальная специфика у этой культуры?
Сама по себе наука не бывает российской и западной. Наука бывает конвертируемой и неконвертируемой, то есть слабой. Но в людях — математиках — я замечаю вот какую разницу. В российском математическом сообществе ценят широту интересов, высокий уровень общего образования. Принято, чтобы человек знал много о самых разных вещах. В прошлом семестре мы с Алексеем Брониславовичем Сосинским прочли в Независимом Московском университете — так называется некоммерческий математический институт, где учатся сильнейшие математики, — курс «Час английской поэзии». Оказалось, что такой курс вполне востребован среди математиков. А в более жестком западном обществе, особенно американском, занятия прочими изящными предметами не столь распространены и не стали признаком хорошего тона.
В каком возрасте математики более продуктивны?
Основные открытия математики совершают, как правило, в молодости, очень рано. Студенты, оканчивающие Независимый Московский университет (НМУ), — уже математики мирового уровня. В гуманитарных науках это не так. Чтобы стать ученым с именем и набрать необходимый объем знаний, требуется гораздо больше времени. Оборотная сторона раннего развития математиков такая: человек, который в науке настроен на то, чтобы его следующие работы были не хуже, а лучше предыдущих, часто довольно быстро сходит со сцены, потому что ярко светить всю жизнь редко кому удается.
Но бывают счастливые исключения: Израиль Моисеевич Гельфанд творил продуктивно до 85 лет. Австрийский ученый Виеторис, раненный еще в Первую мировую войну, работал в науке чуть ли не целый век. Он умер в 2002 году и публиковал статьи до 103 лет из своих 111. Но в целом математика — наука молодых. Отсюда, кстати, специфика премий. Нобелевскую премию человек получает по совокупности работ обычно в пожилом возрасте, а ее аналог по математике — Филдсовскую медаль дают ученым до 40 лет.
Математику изучают очень долго — от первоклассника до дипломника. Действительно ли ее нужно преподавать всегда и всем или это дань традиции?
По моему мнению, начатки математики нужны абсолютно всем. Очень многие виды человеческой деятельности требуют математических расчетов, и человек, не усвоивший арифметики, в каком-то смысле профессионально непригоден. Как-то я пригласил электрика менять проводку в комнате. Он пришел с помощником — и велел тому посчитать, сколько провода потребуется. Помощник справился с задачей частично: измерить длину и ширину комнаты он смог, а вот сложить их — совсем никак. А уж что бывает, если арифметически неграмотными оказываются чиновники или политики, которые и сообразительностью часто не отличаются, мы знаем все.
Школьная математика должна научить важным навыкам: в уме, без калькулятора сложить одно-двух-трехзначные числа или хотя бы прикинуть результат, хорошо считать на калькуляторе. И еще — но этому почти нигде не учат — уметь оценить правдоподобность полученного числа. Приведу анекдотический пример: французский школьник, сын моего друга, решает задачу: определить радиус Земли, исходя из каких-то данных. Я как раз вошел в тот момент, когда отец (математик) начал на него орать: мальчик насчитал 6,5 сантиметра, и такой ответ его нисколько не смутил. А вот какое оправдание придумал ученик: «Это же задача по математике, а не по физике.
По физике может, действительно, мало...» Умение оценивать правдоподобие развито, на удивление, мало. Газеты и журналы без конца путают миллионы с миллиардами, и этого никто не замечает. В статьях, даже о науке — явные логические нестыковки. Понятно, что человек, который это написал, попросту малограмотен. Нарушения в элементарной логике в речах политиков и высокопоставленных чиновников — вещь совершенно обычная. Школа должна развивать навыки мышления. Во-первых, твердо усвоить, что если из А следует B, то это не значит, что из B следует А. Во-вторых, отличать возможное и правдоподобное от доказанного. Младшая и средняя школы должны «ставить» ребенку логику.
А потом кому и как надо продолжать математическое образование?
Я вообще не уверен, что в нашей стране доля людей с дипломами должна быть столь огромной. Приведу пример: в Швейцарии идут в университеты вдвое меньше людей, чем во Франции. И нельзя сказать, что швейцарцы менее образованны, чем французы. В старших классах человек, как правило, уже отчасти определился с будущим. Если он решил стать художником, новые знания по математике ему не очень нужны, но могут быть интересны как часть общего развития. А будущему ученому, инженеру или бизнесмену, который займется высокими технологиями, математика потребуется обязательно.
Причин для особого внимания к математике несколько. Одна из них связана с отбором. Допустим, вам нужно найти толкового студента и воспитать из него менеджера, врача или кого-то еще. Как я могу понять в школе, что он толковый? Пожалуй, стоит обратить внимание на два качества: память (это полезное, но не главное) и структурированность мышления. Второе дается математикой. И недаром в разных вузах, даже гуманитарных, один из экзаменов, на которые смотрят, — математика. Ведь важно проверить, чтобы человек не сваливал все в кучу, чтобы он хорошо соображал.
Но математическая логика и теория множеств в большей степени, чем арифметика или тригонометрия, способствуют четкости мышления и готовят к оценке вероятности. Одно время их преподавали в школе, потом отказались. Нужно ли вернуть эти разделы?
Безусловно, их надо преподавать. Но это упирается в проблему качества подготовки школьных учителей. Надо заново определить, чему учат в вузах будущих педагогов, пересмотреть сами школьные курсы. Надо давать больше интересных, даже развлекательных задач — конечно, не в ущерб арифметике. Основные элементы теории множеств, теории вероятностей, топологии и впрямь полезнее, чем тригонометрия. Но исторически школьная математика была в основном направлена на инженерное образование, причем в отсутствие компьютеров. Ясно, что надо что-то менять.
Алгебра в том виде, как она сейчас преподается, не нужна вообще никому. Учат решать длинные примеры на раскрывание скобок. Это делается механически: редко кто хорошо понимает, почему их надо раскрывать так, а не иначе. Учат не математике, а правилам переписывания цепочек из букв и цифр. Но с этой задачей уже сейчас отлично справляется компьютер. Алгебре учить безусловно надо, но в первую очередь надо учить пониманию, почему скобки раскрываются именно так и зачем это надо.
Математик — это не тот, кто хорошо решает, а тот, кто ставит задачи — себе самому, другим или компьютеру. Как связаны умения решать сложные задачи и способность самостоятельно их формулировать?
Вот мое впечатление — правда, не статистика, а прикидка на глаз. Из тех, кто, будучи школьником, побеждал на олимпиадах высокого уровня, примерно половина становится хорошими математиками. А из хороших математиков примерно половина была успешна на олимпиадах в школе. То есть корреляция высокая, но далеко не стопроцентная. Олимпиадные задачи проверяют математические способности лишь до некоторой степени. В науке главное — умение увидеть объект, то есть математическую реальность, и заинтересоваться, каковы его свойства. Это общее для всей науки: нужно разглядеть объект, определить, интересно ли его изучать, понять, какие вопросы ставить, уметь взглянуть на этот объект с самых разных сторон, как он взаимодействует с другими объектами.
Вот аналогия: исключительно красивое здание, скрытое от нас густым туманом. Где-то мы видим отблеск, а где-то удалось рукой дотронуться, но мы хотим понять принцип конструкции и архитектуру целого. Это основное умение математика. А умение решить сложную задачу олимпиадного типа — полезное дополнение. Оно иногда требуется, как и «технические» навыки: раскрыть скобки или вычислить синус — полезные, но не главные для математика.
Некоторые математики стремятся делать открытия в других науках. Почему это редко удается?
В любой дисциплине — от вирусологии до религиоведения и истории — действуют свои критерии истины. Они отличны от критериев математики, притом что базовая логика там та же самая. Известно много примеров, когда математик обращался к другим наукам и, видя, что в них нет той строгости, к которой он привык, начинал думать, что в этих науках можно делать все, что угодно. Возьмем книги Шафаревича, Фоменко. И тот, и другой — очень хорошие математики, достигшие многого в своей области. Они заинтересовались социальными науками — историей, философией — и обнаружили, что уровень доказательности тех текстов, которые они читают, не высок. Тогда они придумали что-то из головы и решили, что у них получилось не хуже. При этом они упустили из виду, что историк никогда не пользуется только хрониками. Чтобы сделать какое-то утверждение, ему нужно посмотреть десяток-другой источников, взглянуть на объект с самых разных точек зрения, понять, из чего исходили предшественники.
А если математик уходит из науки и решает заняться чем-то другим, какие варианты карьеры вы наблюдаете чаще всего?
Очень разнообразные. Достаточно типовой путь — уход в computer science. Либо человек занимается информатикой как наукой, либо уходит в компанию типа Яндекс, Google и становится программистом, то есть возглавляет какую-нибудь группу разработчиков. В работе ему помогает структурированность и здравый смысл, а также кое-какие знания в математике — но, конечно, лишь малая их доля. Второй типичный путь — свой бизнес. Тут математику опять же помогает сообразительность, а мешать может недостаточная социальная адаптивость.
Кто-то занимается экономикой и финансами. Несколько моих учеников работают в инвестиционных банках в Лондоне — там огромную роль играют модели и расчеты. Кто-то работает прямо на бирже — торгует деривативами. Но самый характерный путь — профессор вуза. Человек уходит преподавать математику в университет или (реже) в школу. Часть при этом бросает самостоятельные занятия наукой, а часть — продолжает.
На сайте вашего института я увидела, что в вашем секторе работают три Филдсовских лауреата. Они действительно у вас присутствуют?
Я горжусь тем, что в моем секторе в Институте Проблем передачи информации (ИППИ) больше Филдсовских лауреатов, чем где бы то ни было в мире. Кажется, столько же лишь в Принстоне. Все трое живут и работают на Западе, но участвуют в российской научной жизни — правда, в разной степени. Один бывает здесь очень часто и вовлечен во множество разных российских проектов, второй — тоже взаимодействует с российской наукой по разным направлениям. Ни про одного нельзя сказать «отрезанный ломоть».
Но основная зарплата и место жительства у одного — Франция, а двух других — Штаты. Во Франции живет Максим Львович Концевич, он уехал отсюда довольно рано, диссертацию защищал уже в Бонне. Григорий Александрович Маргулис преподает в Йеле, а Андрей Юрьевич Окуньков был в Принстоне, а сейчас в Нью-Йорке в Колумбийском университете. Решение не увольнять ученых, сменивших место жительства, — политическое. Одни институты их уволили, другие нет. Я рад, что в ИППИ для них осталось место, правда, без зарплаты.
Остаются ли в России сильные молодые ученые в вашей области? А «звезды» вашего поколения в основном здесь или «там»?
Математиков мирового уровня сейчас в России не меньше, чем было в советские времена. Плюс появилась мощная диаспора. Начнем с молодежи. Сразу похвастаюсь: лауреаты премии для молодых ученых Московского математического общества последних трех лет также работают в моем секторе: Сергей Рыбаков, Алексей Зыкин, Александр Гайфуллин. Прекрасные молодые ученые работают на математическом факультете Высшей школы экономики. Вот несколько фамилий: Тиморин, Буфетов, Вербицкий, Америк, Локтев, Рыбников. Наверняка многих молодых того же уровня я сейчас не вспомнил. Посмотрите список лауреатов конкурсов премий Делиня и «Династии»: они все — превосходные математики. Из старших — Филдсовский лауреат 1970 года, академик Сергей Петрович Новиков, две трети времени проводит в России, у него прекрасная школа.
Яков Григорьевич Синай, проводя в Москве чуть меньше полугода, ведет прекрасный семинар. Многие работают так: семестр здесь, семестр там. В моем классе — я окончил Вторую физматшколу в 1971 году — очень много хороших ученых, оставшихся в России, а вот в моей университетской группе нет ни одного действующего математика, который бы не работал на Западе. Здесь нет логической ошибки: я сам живу в Москве, но в том числе работаю директором-исследователем французского Национального центра научных исследований.
Почему в советские времена в стране была довольно сильная математика?
Этому способствовали два противоположных обстоятельства — тоталитаризм и свобода. В мое время, не пожертвовав совестью, трудно было идти в гуманитарную или социальную науку. Многие выбирали факультеты, куда не надо было сдавать историю, — чтобы не врать. Вообще тоталитаризм выжимал способных людей в науку из многих других областей человеческой деятельности, которые были либо вовсе для них закрыты, либо требовали большого напряжения совести. Бурный всплеск советской математики связан с хрущевской оттепелью. Она дала ученым ощущение свободы, они развернулись и стали творить. Возникли крупные математические школы, пропитанные духом освобождения.
А почему тогдашнее государство за это свободное творчество хорошо платило?
Платить начал Сталин: он ведь после войны стал строить империю. В империи должны наличествовать блестящая живопись, литература и архитектура — все в сталинском стиле, естественно. И наука. Чтобы ученые были управляемыми, им здорово платили. После войны доктор наук получал столько, что по уровню жизни отличался от рабочего в той же мере, что современный олигарх. Кстати, тогда во всем мире математикам неплохо жилось, потому что их путали с физиками, а физики были нужны, чтобы делать ядерную и водородную бомбу. Прикладная математика тоже была в это отчасти вовлечена, а фундаментальная — жила отдельно, как бы с краю всего этого. Но было понимание, что математическое образование и математическая наука нужны для величия страны. Сейчас оно, к сожалению, ушло.
Раз наука интернациональна по сути, тогда, быть может, не всем странам нужно развивать у себя математику?
Мы не можем сказать, почему хорошо развитая математика дает стране благополучие и благосостояние, но наблюдаем закономерность: если страна развитая и благополучная, то там и математика в чести. И наоборот: там, где математика никакая, страна и живет впроголодь. Прямой причинно-следственной связи может и нет, но зависимость отчетливая.