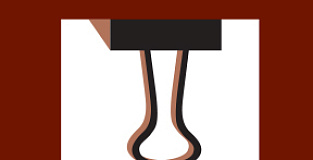читайте также
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУВИНСКИМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУВИНСКОГО ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Уже три года российское правительство активно привлекает в страну ученых с мировым именем — как «наших», уехавших за границу, так и зарубежных — для возрождения отечественной науки. По сути это ответ на открытые письма президенту и премьеру самих ученых, предупреждавших в 2009 году, что еще пять-семь лет — и российская наука, прежде всего фундаментальная, умрет вместе с последними носителями знаний, многим из которых пошел восьмой, а то и девятый десяток.
В 2010 году стартовала правительственная программа мегагрантов, предназначенных для развития фундаментальных и прикладных исследований в российских вузах, без участия институтов РАН. В июле 2010-го впервые был объявлен открытый международный конкурс, каждому победителю которого правительство выделяло на три года до 150 млн рублей — сумму приличную даже по западным меркам. Скажем, гранты Европейского исследовательского совета — он существует с 2007 года на взносы стран Евросоюза — на фундаментальные исследования составляют ?1,5—3,5 млн каждый и предоставляются на пять лет (всего с 2007 года выдано около трех тысяч грантов на ?5 млрд). В США, где особенно развита грантовая система, государственный Национальный научный фонд (бюджет 2013 года — $7,3 млрд) выделил в 2012 году 11,7 тысячи грантов — в среднем по $161 тысяче на три года, но были и гранты на миллионы долларов (например, $10 млн Калифорнийскому университету в Беркли на исследование «больших данных»).
По условиям российского конкурса деньги должны были пойти на создание лаборатории мирового уровня в одном из российских вузов. Для ученых самое привлекательное в российских грантах — возможность создать лабораторию «с нуля». И ученые поехали. С 2010 года состоялись три конкурса, на них было подано 1744 заявки из более 40 стран (с 2012 года в конкурсах участвуют институты государственных академий наук и государственные научные центры). Гранты уже получил 121 человек.
Деньги — всего за все три «волны» 12 млрд рублей ($400 млн) — выделяли вузам и институтам, в которых должны были работать победители. С 2012 года гранты урезали со 150 до 90 млн рублей: опыт показал, поясняет бывший замминистра образования и науки Игорь Федюкин, что этой суммы достаточно. Также с 2013 года вуз обязан привлечь внебюджетное финансирование — 25% от суммы гранта, а значит, заинтересовать бизнес разработками лабораторий.
По условиям конкурса восемь месяцев в году руководить исследованиями можно дистанционно, что сильно облегчило задачу привлечь ведущих ученых. Среди победителей, представляющих 19 стран мира, три нобелевских лауреата и один — Филдсовской премии. Большинство — российские ученые, имеющие гражданство США, ФРГ, Франции, Италии, Японии, которые постоянно живут и работают за рубежом. Все — люди занятые, руководят лабораториями по всему миру. Некоторые из них признают, что российские условия работы не лучшие для продвижения науки — главным образом из-за российской бюрократии. Тем не менее с каждым годом заявок на гранты подается все больше.
Обойти административные препоны и создать научно-исследовательскую экосреду по примеру Силиконовой долины призван инноград «Сколково». При нем в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом (MIT) в 2010 году основан «Сколтех» — негосударственный вуз, в котором к 2020 году планируется открыть 15 мировых научных центров с исследовательскими лабораториями, на что предполагается затратить $675 млн (частных и государственных поровну). Работу в институте получают ученые мирового уровня. Формально программы мегагрантов на «Сколтех» распространяются, но он ими не пользуется. У вуза, наделенного особым административным, таможенным и налоговым статусом, своя программа развития — сейчас ее финансирует в основном государство, через фонд «Сколково». Институт хочет перейти на частные деньги и самофинансирование, для чего был основан эндаумент: сегодня в нем 4 млрд рублей (основные доноры — РЖД, «Аэрофлот», Роснефтегаз). Фонд финансирует и научные центры, не относящиеся к «Сколтеху», но входящие в состав иннограда, которые привлекают в Россию ученых с мировым именем.
Найти данные о том, сколько иностранных ученых получили работу в России за последние годы, не удалось. Но по оценкам — не менее двухсот. У каждого свои резоны ехать в Россию — и нам было бы интересно понять, что движет этими людьми и какие в целом перспективы у государственных инвестиций в науку?
Кто здесь будет указывать?
Биофизик Константин Агладзе — из тех редких ученых, кто вернулся в Россию «насовсем». С 2008 до 2012 года он возглавлял созданную им лабораторию в Institute for Integrated Cell-Material Sciences Киотского университета, где ему удалось искусственно вырастить сердечную ткань на полимерных нановолокнах. Это, в частности, открывает дорогу к созданию искусственного сердца — в дальней, по словам Агладзе, перспективе. Ближайшей же задачей профессор видит изготовление «заплаток» для сердца, которые можно было бы ставить на место поврежденных тканей, рубцов, остающихся после инфаркта миокарда, а также лекарств от сердечной аритмии, приводящей к остановке сердца.
Все эти разработки 58-летний Агладзе привез в Россию. В 2010 году он получил мегагрант — 144 млн рублей — и на эти деньги создал в МФТИ лабораторию «Наноконструирование мембранно-белковых комплексов для контроля физиологии клетки», в которой продолжил начатые в Японии исследования. И хотя после окончания мегагранта он мог остаться в Киотском университете, Агладзе предпочел вернуться в Россию. «Если бы у меня не было позитивного ощущения по поводу происходящего в Физтехе, я бы не приехал», — говорит он.
Агладзе подал заявку на мегагрант по совету знакомых профессоров, с которыми учился в МФТИ. К тому времени он понял, что оставаться в Японии не хочет: так и не привык к слишком влажному и жаркому лету и закрытой иерархической культуре. «Япония — сложная страна, а грант действительно открывал большие возможности». Агладзе, автор около 100 публикаций (в том числе в Nature и Sceince), написал научную заявку, вуз ее оформил и подал. Профессора не остановил тот факт, что для МФТИ область его научных интересов, тканевая инженерия сердца, была новой. «Мы культуру тканей выращиваем. У нас крысы, живые организмы… В Физтехе никто с этим никогда не работал», — вспоминает Агладзе. На самом деле его темой в России вообще никто не занимался, поэтому какой вуз выбрать, было непринципиально. Что же касается родного МФТИ, который Агладзе закончил в 1978 году, то в нем есть кафедры биологической направленности, а значит, — студенты и аспиранты с нужной теоретической подготовкой. К тому же Физтех с 2010 года участвует в федеральной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (выпускники Физтеха руководят крупными российскими фармкомпаниями — «ХимРар», «Биокад», «Фармзащита», «Фармстандарт») и уже получил из бюджета 1 млрд рублей на строительство нового учебно-научного корпуса — биофармкластера «Северный».
В феврале 2011 года, после объявления итогов первого конкурса мегагрантов, профессор Агладзе, тогда еще возглавлявший киотскую лабораторию, прибыл в Москву. На деньги гранта он должен был открыть лабораторию, нанять десять студентов и аспирантов, а к концу 2012 года запатентовать разработки или отчитаться публикациями в ведущих мировых научных журналах. Сроки жесткие: вместо номинальных трех лет — фактически два года, поскольку грант заканчивался в 2012 году. И это при том, что обычно лаборатория «с нуля» начинает давать результаты к концу второго года работы — если не учитывать российской специфики: бюрократии и медлительности. Сам профессор должен был проводить в МФТИ четыре месяца в году, остальные восемь мог руководить лабораторией дистанционно. Но и эти четыре месяца нужно было выкроить: контракт в Киото не предполагал такого количества свободного времени. «Но я в Японии работал без выходных, у меня там отгулы накопились. Плюс отпуск, плюс 2,5 месяца я имел право на стороне работать», — вспоминает профессор.
В Москве Агладзе подстерегали неожиданности. Во-первых, никто в МФТИ не представлял себе, как организовывать лабораторию, — просто не было такого опыта. Проработавший в иностранной науке 20 лет, Агладзе недоумевал: «Никто в Физтехе не понимал, какой чистоты должен быть воздух в лаборатории, как стены должны быть отремонтированы, чем покрыты». Биохимик Валерий Фокин, профессор Института Скриппса в Калифорнии, выигравший вместе с МФТИ мегагрант 2012 года, говорит, что в США привыкаешь к другому: «Там ученые указывают, что им нужно, а технический персонал все готовит. Реагенты, техника безопасности — этим ученые не занимаются». Ему, говорит Фокин, пригодится опыт Агладзе и других ученых из первой волны мегагрантов.
Вообще, смеется Агладзе, первое, что бросилось в глаза, — это отсутствие какой-либо четкой организации на факультете, к которому приписали лабораторию: «Это какая-то махновщина была: приезжает декан, студенты бегут к нему какие-то бумаги подписывать». Что касается ректората, то он демонстрировал самое благожелательное отношение к лаборатории, но на факультете все стопорилось. «Приехал первый раз, обсудили, что нужно, как строить. Приехал через три месяца — конь не валялся». В какой-то момент его лабораторию решили уплотнить, потом начались проблемы с покупкой оборудования — Агладзе хотел такое же, с каким работал в Японии, только современнее. «Ультиматумы приходилось ставить то и дело», — смеется он.
К лаборатории ведет коридор с битым паркетом и давно не крашенными стенами. За железными дверями — помещение около 100 квадратных метров, разделенное перегородками, отремонтированное и заставленное научной техникой. «По условиям гранта до 60% можно тратить на зарплаты, но я почти все вложил в оборудование», — поясняет Агладзе. Ничего подобного ни у одной лаборатории, говорит он, нет ни в Японии, ни в США: «Вот это — конфокальный микроскоп, позволяющий строить трехмерное изображение тканей. В Киото он такой один на весь институт, а у нас — свой собственный в лаборатории». Обошелся он в ?700 тысяч.
Несмотря на лето и сезон отпусков, в лаборатории трудятся студенты и аспиранты. Некоторых из них Агладзе возил на три месяца в свою киотскую лабораторию, пока готовилась российская. Всего здесь сейчас работают 13 человек, десять из них — физтеховцы. Студенты получают по 16 тысяч рублей в месяц, аспиранты — по 40 тысяч, как в Европе, которую взяли за ориентир: там платят по ?400 и 1000 соответственно. «Поэтому я могу спрашивать с них нормальную работу, — поясняет профессор, — чтобы они не говорили, что им надо в Burger King подрабатывать».
Экспериментируя с выращенной сердечной тканью крыс, в лаборатории, кроме всего прочего, изучают возникновение циклических волн возбуждения, приводящих к аритмии и инфаркту. Есть и наработки для лекарств в этой области — в случае успеха профессор планирует патентовать их вместе с научным центром «ХимРар»: председатель его совета директоров Алексей Иващенко, тоже физтеховец, говорит, что заинтересовался проектами Агладзе. Коммерческий потенциал у разработок лаборатории есть, ведь основными причинами смертности людей во всем мире, по данным ВОЗ, стабильно значатся заболевания сердечно-сосудистой системы.
Функционировать лаборатория начала в конце 2011-го, спустя год после получения гранта. На проволочках с подготовкой помещения Агладзе потерял полгода. Из-за этого сдвинулся график исследований, которые он обязался выполнить к концу 2012 года. «Финансирование было адекватное, но я рассчитывал на другие сроки. Мы, конечно, напрягались изо всех сил», — вспоминает профессор. Формально он не уложился в график: на сайте Минобрнауки в отчетности по первым мегагрантам указывается, что о результатах работы его лаборатории нет данных. В итоге, говорит Агладзе, «продления гранта я не получил, хотя официально сообщили, что я его не запрашивал».
Дело в том, что согласно условиям конкурса Минобрнауки могло продлить мегагранты до 30 млн рублей еще на два года. По официальным данным, из 40 победителей на продление подали 37 человек, одобрены были только 24 заявки. Остальным предложили искать спонсоров. «Государство дает деньги только на запуск проектов, а будут ли они дальше развиваться, зависит от самих ученых», — пояснял Федюкин.
Дальнейшее финансирование лаборатории Агладзе взял на себя вуз. Бюджет лаборатории сократили до 15 млн рублей в год — немного, но денег сейчас нужно меньше. И это сопоставимо с зарубежными условиями: в США, например, базовый грант по молекулярной биологии R01 дается на пять лет — по $260 тысяч (8,32 млн рублей) в год. «Крепкий профессор в американском университете имеет два таких гранта, итого $520 тысяч в год, столько же сейчас у меня в Физтехе», — говорит Агладзе. Правда, ему приходится из этих денег начислять себе зарплату, тогда как в США это берет на себя вуз или штат. Сколько профессор себе платит, он не уточняет, но в Японии еще в 1997 году Агладзе работал за $6 тысяч в месяц; позже получал в разы больше.
С марта 2013 года Агладзе окончательно перебрался в подмосковный Долгопрудный: Физтех предоставил ему с женой служебную квартиру. Профессор рассчитывает на долгую жизнь лаборатории, тем более что в 2013 году МФТИ наряду с 15 другими вузами победил в конкурсе Минобрнауки по продвижению российских институтов и университетов в мировом рейтинге топ-100. На эти цели МФТИ получает дополнительное финансирование: в 2013-м — до 600 млн рублей. Программа рассчитана до 2020 года, и Агладзе надеется на стабильное финансирование. Это позволит ему пригласить на два-три года постдоков из-за рубежа и тем самым усилить лабораторию. Что же касается всего МФТИ, то вуз должен перестроить свою структуру и изменить учебную программу по примеру ведущих мировых вузов вроде MIT. Здесь опыт Агладзе, работавшего в лучших лабораториях США, Европы и Японии, может пригодиться.
В дальней перспективе Агладзе хотел бы, развивая открытие своего японского коллеги Синьи Яманаки, за которое тот получил Нобелевскую премию 2012 года по биологии, заняться перепрограммированием клеток пациента. Японец научился из обычных клеток делать плюрипотентные, которые можно превращать в любые другие. Например, клетки кожи — в клетки сердца, чтобы вырастить имплантат, который бы организм не отторгал. Агладзе мог бы заниматься этим в Японии, но там, по его словам, ученый слишком зависит от политики руководства. А в России у него больше научной свободы, поскольку он сам себе ставит задачи: «Кто здесь будет говорить, что мне делать?».
Помимо Японии, с 1990-х Агладзе много работал в крупных лабораториях Франции, Германии, Италии, пока не уехал в 2000 году в США, где начал заниматься культурой тканей. Лаборатории, в которые его приглашали, он выбирал так: «Насколько интересно, сколько заплатят, с чем и как работать, в каком месте». Время от времени он возвращался в родной Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущине, где у него своя квартира. Из-за этих частных приездов, считает Агладзе, он не оторвался от российской действительности, поэтому ему легче других российских профессоров, работающих за границей, далось возвращение. Человек ироничный, он замечает, что у него нет амбиций растить в России последователей. «Я сделал открытие, что человек с возрастом начинает всех учить. К счастью или нет, я этого лишен абсолютно».
«Сумасшедшие в хорошем смысле люди»
Серьга в ухе, чуть приталенный пиджак, стильные джинсы — 56-летний профессор американского Университета Пердью Владимир Шалаев нездешне элегантен, что подчеркивается едва заметным акцентом. За два дня до нашей встречи он прилетел из США в Москву проводить международный конгресс и летнюю школу по квантовым технологиям.
Шалаев родился в Красноярске, там же закончил университет. Сейчас он один из самых известных в мире специалистов по нанооптике и метаматериалам. В США у профессора большая лаборатория в центре нанотехнологий его университета. В Москве Шалаев помогает создавать Российский квантовый центр (РКЦ) — исследовательский институт, на который возлагает большие надежды. «Большая идея РКЦ состоит в том, чтобы возродить науку в России на самом высоком мировом уровне, — рассказывает профессор. — Где-нибудь в Китае я бы не стал делать такой проект. Россия — другое дело, это моя родина».
Шалаев уехал в 1990 году — выиграл грант Фонда Гумбольдта для молодых иностранных ученых, которые получают возможность работать в Германии над исследовательскими проектами. «Я тогда еще спрашивал, нельзя ли не на два года уехать, а на пару месяцев? Хотел вернуться к себе в университет», — вспоминает он. Но исследования в России сворачивались — из страны уезжали целыми институтами. В 1993 году Шалаев переезжает в США, в Университет штата Нью-Мексико, а через семь лет — в Университет Пердью.
Ему нравится идея РКЦ — десять научных групп, которые занимаются и фундаментальной наукой, и инженерными разработками. РКЦ располагается на территории «Сколкова», наукограда, созданного, чтобы развивать энергетику, ИТ, телекоммуникации, биомедицинские, нано- и ядерные технологии. Это новый для России подход, поэтому важно создавать все «с нуля», включая инфраструктуру. РКЦ, как и «Сколково», надеется Шалаев, послужит моделью для других российских научно-инженерных кластеров.
РКЦ создан в 2011 году, помещения под его научные лаборатории занимают почти весь подвал одного из зданий «Сколкова»: три полностью оборудованы, в остальных идет монтаж лазерных установок, прибывших, судя по штемпелям, из Австрии. Уже работают четыре научные группы по пять-десять человек, еще четыре появятся к концу года, поясняет гендиректор РКЦ Руслан Юнусов. Руководители групп отбирались на международном конкурсе — и все лидеры или потенциальные лидеры в своих отраслях, поясняет Шалаев.
Зачем вообще «Сколкову» квантовый центр, Шалаев объясняет так. Следующая технологическая революция — после транзисторной, давшей радио, телевидение и компьютер, то есть доступ к информации, — будет квантовая. Она кардинально изменит облик мира, даст новые материалы, источники энергии, медицину и вычисления. В РКЦ, в лаборатории Алексея Акимова, старшего научного сотрудника ФИАН и исследователя Гарвардского университета, изучают, среди прочего, создание квантовых линий связи, которые нельзя прослушать. «Или, например, можно создавать квантовые симуляторы новых, еще не существующих материалов с нужными свойствами», — замечает Акимов. В научной группе Алексея Желтикова, профессора МГУ и Техасского университета A&M, разработана, в частности, методика изучения активности мозга с помощью световых импульсов, что открывает новые возможности в диагностике. Обоих на работу в центр отбирал вместе с еще несколькими учеными Шалаев, входящий в исполнительный комитет РКЦ.
В управляющие органы центра удалось привлечь двух нобелевских лауреатов по физике — американцев Вольфганга Кеттерле и Дэвида Гросса. Первый, кстати, в июле приезжал в Россию на уже вторую международную конференцию по квантовым технологиям, организованную РКЦ. Разработкой концепции центра и подбором научных кадров помимо самого Шалаева занимаются Юджин Ползник, профессор физики Института Нильса Бора Копенгагенского университета, и Джон Дойл, содиректор Гарвардского центра квантовой оптики, и два профессора Гарвардского университета Евгений Демлер и Михаил Лукин. «Это сумасшедшие в хорошем смысле люди, которые знают российскую науку, уважают российскую культуру», — поясняет их мотивы Шалаев.
Но одних ученых, даже самых авторитетных, для создания центра мало. «Чтобы был Массачусетский технологический институт, нужен Массачусетс», — замечает Шалаев. Благоприятные условия создаются. РКЦ, как и коммерческие компании, имеет статус резидента «Сколкова», который среди прочего дает целый ряд преимуществ в виде налоговых преференций — в случае с РКЦ пока на пять лет: освобождение от налога на прибыль, страховые и таможенные льготы, а также доступ к государственным услугам и получению грантов от фонда «Сколково».
РКЦ опекают три миллиардера, которые вкладывают деньги в высокотехнологичные отрасли: физтеховцы Сергей Белоусов и Александр Абрамов, а также Алексей Мордашов, выпускник Ленинградского инженерно-экономического института им. Тольятти. «Белоусов — ключевой здесь человек, без него ничего бы не было», — замечает Шалаев. Белоусов, основатель Parallels, софинансировал подготовку создания РКЦ и возглавил его попечительский совет.
Основную же сумму — грант в размере 1,32 млрд рублей — в 2012 году выделил фонд «Сколково», получивший, в свою очередь, деньги от государства. Сумма беспрецедентная для фонда, ограничившего верхнюю планку грантов 300 млн рублей. «Нам дали $40 млн на пять лет, это по западным меркам скромный бюджет небольшого центра, — говорит Шалаев. — Учитывая, что привлекаются ученые, ведущие в своей области науки». При этом в чистом виде РКЦ получит 800 млн рублей, поясняет гендиректор Юнусов, остальные 400 млн РКЦ должен найти у частных инвесторов. Один из них — Александр Абрамов. На основе исследований РКЦ уже ведется разработка конкретных продуктов: Алексей Акимов консультирует «Скантел» и МПГУ по поводу производства квантовых чипов, а сам Шалаев — компанию Nano Meta* Technologies, которая разрабатывает генератор одиночных фотонов, применимый в квантовой криптографии.
Людей, участвующих в дележе «научного пирога», недоброжелатели подозревают в корысти. Но эти подозрения Шалаев отметает: никакого финансового мотива, говорит он, у него и его именитых коллег нет. «Одна из самых главных вещей для меня в науке — возможность общаться с интересными людьми, которых при других обстоятельствах никогда не встретишь. Дело не в том, что многие из них нобелевские лауреаты, они уникальные!». И когда он увидел Сергея Белоусова и Михаила Лукина, то понял, что с такими людьми хочет иметь дело. Но для этого нужно само дело. «И я понял: РКЦ — хорошая, сумасшедшая идея, она будет отличным поводом общаться с ними». По сути, уточняет Шалаев, в РКЦ совпали все три вещи: «Я считаю центр важным делом — ведь это для моей родины; кроме того, создать его очень сложно, практически невозможно; и последнее — мне интересно!».
Но, несмотря на привязанность к России, возвращаться сюда на постоянную работу он не собирается — нет условий. «Для меня работа — главное в жизни, может, за исключением семьи; и ты понимаешь, что жизнь одна, и ты хочешь сделать что-нибудь такое, чтобы остаться в истории науки, — поясняет он. — На самом деле мне все равно где работать — в России, Китае или США. Но мне в США создали условия, которых пока нигде больше нет, чтобы я занимался своим любимым делом».
Из оттока в круговорот
В «Сколтехе» фундаментальными исследованиями занимается другой именитый россиянин, давно обосновавшийся в США, — профессор физики и астрономии Нью-Йоркского университета Стони-Брук Дмитрий Харзеев, специализация которого — квантовая хромодинамика и теория столкновении тяжелых ионов. В 2013 году он получил престижную Гумбольдтовскую премию за предсказание эффекта в плазме, который потом открыли на коллайдерах.
Харзеев учился в МГУ, в 1990 году там же защитил кандидатскую и в том же году уехал из России. «Передо мной, в отличие от большинства ученых, не стоял мучительный выбор: уезжать или нет», — вспоминает он. Ему предложили поехать в итальянский Национальный институт ядерной физики. Короткая поездка затянулась на три года. Потом был Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, затем Германия, а в 1997 году его пригласили поработать в США — в созданный только что институт при Брукхейвенской национальной лаборатории, ведущей организации США в области теоретической и ядерной физики, где он шесть лет возглавлял теоретический отдел.
Услышав пару лет назад о «Сколтехе», профессор заинтересовался идеей строить обучение на основе исследовательских центров с учеными из разных областей, а не традиционных факультетов. «Мне эта философия кажется здравой. Ведь в науке наступает эра большого синтеза — выясняется, что вещи, раньше казавшиеся не связанными, связаны очень глубоко», — поясняет он, добавляя, что нравится ему и заложенные в «Сколтехе» принципы международного сотрудничества.
В Брукхейвенской лаборатории он изучал возникновение кварк-глюонной плазмы при температуре, превышающей температуру Солнца в 100 тысяч раз. Частицы в этой плазме практически не имеют массы, и принципы их взаимодействия оказались неожиданно схожи с частицами в так называемых киральных материалах — принципиально новых наноматериалах без электронов и с особыми электромагнитными свойствами. Так фундаментальная ядерная физика пересеклась с прикладной физикой материалов. Сами киральные материалы, в свою очередь, открывают перспективы создания электронных устройств нового поколения, которые практически не рассеивают энергию, тепло. «Быстродействие процессоров уперлось в то, что они сильно нагреваются, поэтому для повышения скорости компьютеров приходится использовать мультиядерные процессоры, но и этот резерв почти исчерпан», — рассуждает профессор. Количество процессоров увеличивается быстрее, чем численность населения, и проблема энергопотребления стоит все острее.
Для исследований в этой области в 2013 году в «Сколтехе» создали Центр экстремальных состояний материи (ЦЭСМ), содиректором которого помимо Харзеева стал Валентин Захаров, главный научный сотрудник российского Института теоретической и экспериментальной физики и профессор МФТИ. В центре работают со своими группами 27 российских и зарубежных (США и Великобритания) ученых, включая двух нобелевских лауреатов по физике. «Задача центра — создавать и исследовать новые киральные материалы, такие как графен, открытый участниками нашего проекта Андреем Геймом и Константином Новоселовым», — поясняет Харзеев.
Центр недавно выиграл грант «Сколтеха» на пять лет, но о сумме профессор не говорит: «Пока обсуждаем с руководством института детали». Деньги на работу центра пойдут по трем каналам: одна часть останется в «Сколтехе», вторая — поступит российским физикам, а третья — зарубежным. Головная российская организация — Институт им. Ландау, он будет распределять средства между сотрудниками на основе субконтрактов. Такая же схема в США и Великобритании: грант поступит в MIT и другие университеты, которые распределят эти деньги согласно своим правилам. «Почти все деньги пойдут на набор постдоков и аспирантов, большинство из них будет из России», — говорит Харзеев.
Эти аспиранты — выпускники технических институтов — будут стажироваться в британском и американском вузах. В «Сколтехе» это уже происходит: 12 студентов из набранных в 2012 году по трехгодичной магистерской программе, всего их было 21, весь минувший учебный год обучались в MIT, партнере «Сколтеха», при этом — бесплатно: деньги за них платит «Сколтех». Собственно, по договору MIT должен помогать «Сколтеху» привлекать профессуру, составлять образовательные и инновационные программы, в частности, развивать центры предпринимательства, налаживать работу института. По сути, MIT готовит россиян к тому, чтобы использовать фундаментальные знания в прикладном формате, коммерциализировать их. По данным российской Счетной палаты, «Сколтех» заплатил MIT $320 млн, но на каких условиях — не известно.
Желание работать в центре Харзеев объясняет прежде всего научными мотивами — ему, как предсказателю эффекта в кварк-глюонной плазме, интересны похожие явления в твердых материалах: «В США я занимаюсь в основном фундаментальной ядерной физикой, а здесь, по сути, тем же самым, но в новой среде и для новых целей». Своей целью работы в «Сколтехе» он видит создание реально работающего Центра экстремальных состояний материи. «Тогда он будет производить ученых, привлекать студентов, вокруг него появятся стартапы».
Если задуманные сколтеховские центры заработают, говорит Харзеев, если на это будет политическая воля российского руководства, то молодые ученые будут не так активно уезжать из России. «Я не говорю, что отток прекратится или все изменится в одночасье. Но если студенты, поступающие в аспирантуру, включат в свой список “Сколтех” наряду с MIT, это будет большой шаг». Вообще, считает Харзеев, ничего плохого нет в том, что ученые стремятся за рубеж: наука не имеет границ. Проблема в том, что в Россию люди не хотят возвращаться. «Мы намерены встроить “Сколтех” в контекст мировой науки, то есть из оттока создать круговорот», — заключает профессор.
Кому это нужно?
Когда 300 лет назад Петр I задумал создать в России академию наук, он тоже звал иностранных ученых. Несмотря на невиданные — 1000 рублей — оклады, именитые профессора принимать приглашение не торопились: слишком сомнительным казалось это предприятие.
Сейчас иностранные ученые едут в Россию куда охотнее, хотя и ненадолго. И если тогда нужно было наладить базовое школьное образование, то сейчас проблема другая: почти нет высококлассных аспирантов и молодых кандидатов наук, на которых держится воспроизводство научных знаний и открытия. Эту дыру государство надеется закрыть, с одной стороны, отправляя аспирантов в лучшие мировые университеты, с другой — пытаясь создать для них в России рабочие места, то есть приглашая из-за границы сильных профессоров, в том числе по системе мегагрантов.
Поэтому хорошо, что в Россию поехали состоявшиеся ученые: по данным Минобрнауки, в 2012 году в деятельности новых лабораторий участвовали две тысячи студентов, аспирантов и молодых ученых. Бывший замминистра Игорь Федюкин считает, что благодаря мегагрантам «утечка умов» из России замедлилась: «Созданы лаборатории высокого класса, в которых интересно работать молодым ученым самого высокого уровня».
А лидеров в своей области знания можно привлечь только сильными институтами и реально работающими лабораториями. Шалаев считает, что сейчас в Россию едва ли едут ведущие специалисты: они и так прекрасно «устроены» в науке. «Люди они все занятые, и включить в свой график место, где просто потеряешь время, никто не станет», — вторит ему Харзеев.
И тогда возникает ключевой вопрос: кому в России нужна наука? Ведущие ученые не поедут массово в Россию, а выросшие здесь таланты будут уезжать, если не возникнет спрос на их знания. «Главные потребители науки в мире — высокотехнологичные компании, и, мне кажется, нужно помогать им появляться», — замечает Харзеев. Шалаев соглашается: «Откуда возьмется спрос на нанотехнологии, если их здесь никто в глаза не видел? Вот мы этот спрос и создаем».
Пока российская экономика остается сырьевой, и запроса на технологические изменения нет, отмечает Александр Аузан, декан экономфака МГУ. «Чтобы появился спрос на технологии, нужны серьезные институциональные изменения — другая конкурентная среда, другой горизонт планирования для отечественных компаний». Или переориентация на продажу разработок за границу, как это делает Израиль или как было в СССР, когда экспорт наукоемких технологий и лицензий приносил $45 млрд в год или примерно 4,5—5% ВВП (против $868 млн в 2011 году).
Биохимика Валерия Фокина, который собирается открыть лабораторию в МФТИ, по его словам, российская действительность не пугает: «Говорят, российской науки нет. Но все, проехали. Я не люблю оглядываться назад. Что есть, то есть, и надо двигаться дальше». Его, автора более 100 научных публикаций и 18 патентов, привлекает возможность создать лабораторию «с нуля» — так, как правильно. Ради этого он готов выкручиваться с реагентами, застрявшими на таможне, решать административные вопросы. «Любой ученый, — говорит он, — должен быть немного фантазером: да, мы обучены выстраивать логические цепочки, но первый шаг всегда из области фантастики — нужно воображение. Это и есть тот творческий элемент, без которого не бывает настоящего ученого».
И хотя программу привлечения иностранной профессуры активно критикуют, в том числе сами ученые, при этом упускается из виду, что ей всего три года. «У науки длинные вегетативные периоды, и о научных результатах говорить точно рано. Можно говорить о том, возникли ли проекты, приехали ли крупные ученые, начались ли работы. Да — возникли, да — приехали, да — начались», — говорит Аузан. Это похоже на то, как в начале 2000-х в Россию стали приезжать управленцы иностранных компаний. Благодаря иностранному бизнесу в России стала развиваться конкуренция и появились новые стандарты, которым стали следовать и отечественные предприниматели. А западных топ-менеджеров в компаниях, подучившись, начали сменять их российские коллеги. Возможно, так будет и с наукой — если российские чиновники ее поддержат и создадут конкурентные и прозрачные для всех условия.
* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена