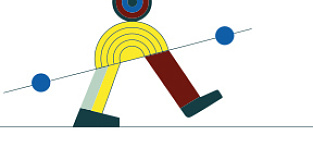читайте также
Рецензия на книгу: Максим Кронгауз. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских культур: Знак, 2007.
В чем различие между экономикой и лингвистикой? Правильно, по первой присуждают Нобелевскую премию, а по второй — нет. Значит ли это, что лингвистическая наука попроще и ее адепты пока «не дослужились»? Вряд ли. Попробуйте почитать книгу по теории языка, и вы со второго абзаца почувствуете, что вся эта морфонология с синтаксисом и глоссематика с компаративистикой — материя не для дюжинных умов. Механизмы, действующие в естественном человеческом языке, ничуть не проще экономических, но, что удивительно, гораздо универсальнее. Возьмем, скажем, такое правило: в предложении с местоимением никто обязательно есть отрицательная частица не. Оно верно на всем огромном русскоязычном пространстве. Из русских никто не ошибется, а вот иностранцам трудно, например если в их родном языке в предложении может быть только одно отрицание. Более того, лет шестьсот назад говорили и так и сяк — Никто не ошибется и Никто ошибется, — то есть норма колебалась, и лишь затем язык утвердился в выборе. Законы вроде этого дети усваивают годам к трем. Иное дело экономика: даже самые простые ее правила в состоянии применить далеко не каждый экономически активный субъект. Языковая норма в целом необычайно устойчива, но большинство из нас почему-то крайне нетерпимо к малейшим «отклонениям»: кого-то коробит от одобрительного кул!, а кто-то не переносит заумных слов вроде дифференциация. Похоже, в язык, как в систему ПВО, встроена функция распознавания «свой — чужой». Поэтому родной язык не только объединяет нас, но и отчасти разделяет на сословия. Представители разных слоев мало пересекаются друг с другом и в жизни, и в делах, но если по каким-то причинам становятся партнерами — культурный шок практически неизбежен.
Впрочем, в вопросах языка (да и в любых других вопросах) люди делятся на либералов и алармистов (они кричат на всех углах, что грамотных людей становится все меньше). Степень языковой толерантности неодинакова у разных культур. Скажем, французы удивительно трепетно относятся к своему языку. Для них просторечие и акцент могут стать причиной исключения человека из определенного круга, а вот американцы, наоборот, абсолютно терпимы к различиям и ошибкам.
Название книги Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» заставляет предположить, что автор скорее алармист, нежели либерал — и это показалось мне странным. Дело в том, что языковеды (а Кронгауз — доктор филологических наук, директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета) обычно наблюдают за явлениями языка с охотничьим азартом, а не с ревнивым негодованием. Они с одинаковым удовольствием изучают и норму, и просторечие, и неологизмы не ставят оценок, не ратуют за чистоту русского языка, не участвуют в судебной экспертизе по вопросу, были ли оскорбительными те слова, которыми Киркоров приветствовал журналистку из Ростова на памятной пресс-конференции. Специалисты по языку просто знают, как он устроен, как действует его механизм, знают, что, когда и почему изменилось и даже что скорее всего изменится в будущем.
Почему же тогда «на грани нервного срыва»? Вот ответ самого Кронгауза: «Язык изменяется так быстро, что специалисты не поспевают за ним, и тем самым отчасти теряется, расползается понятие нормы. Колебания нормы существуют всегда, просто сейчас их слишком много. Однако все это ни в коей мере не свидетельствует о гибели языка. Представьте себе акселерата, который слишком быстро растет, и его маму, которая в ужасе убеждает врачей, что он гибнет. Я бы описал ситуацию несколько иначе. Очень быстро меняется окружающий нас мир (в социальном, культурном и технологическом отношениях). Следом за ним, не всегда поспевая, меняется наш язык. Не будь этих изменений, можно было бы утверждать, что язык мертв: на нем нельзя было бы говорить об изменившемся мире. Наконец, следом за языком поспешаем отдельные и конкретные мы. Нас разделяет очень многое: понимание или непонимание новых слов, любовь или нелюбовь к словотворчеству, знание или незнание орфографии… но мы все время хотим точно знать, как правильно?» Вопрос актуален не только для профессионалов — преподавателей, редакторов и корректоров — но и для простого человека, потому что с помощью языка его постоянно пытаются одурачить. Ведь если человек попадает в непривычную среду, где известные вещи называют неизвестными словами, он не сразу понимает, что происходит вокруг. Возьмем, например, названия профессий. Слово менеджер звучит неплохо, в словарях определяется как «наемный руководитель», но кто на самом деле знает, что оно значит? Есть менеджеры по продажам, менеджеры торгового зала, акаунт-менеджеры, ивент-менеджеры и даже менеджеры по клинингу (это те, кто выдает уборщицам перчатки и моющие средства). В Курске на визитной карточке одного руководителя я прочитала: Дивизионный трейд-маркетинг менеджер.
«Зачем же русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно-пустоватое слово?» — спрашивает Кронгауз, и сам отвечает: «За словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура. Менеджер — это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, наконец, просто стабильная жизнь. Менеджер читает солидные СМИ, ест бизнес-ланч, вечером ходит в клубы, а летом отдыхает за границей…». То есть это — средний класс за вычетом свободных профессий.
«Но русский язык не был бы рус-
ским, если бы не сумел сыронизировать над собой в этой ситуации.
И породил слово-близнец — манагер… Различие между ними — в отноше-
нии к соответствующей культуре, статусу, привычкам и к себе, менеджеру, в том числе», — пишет автор. И далее: «Мне полюбились эти загадочные и бесконечно красивые слова: мерчандайзер, фандрайзер, медиапланнер, коучер, хедхантер, но я даже после длинных объяснений не могу понять, что, собственно, эти люди делают… Хуже всех приходится детям. Психологи отмечают: современные дети реже играют в ролевые игры, связанные с профессиональной деятельностью. Легко нам с вами было когда-то играть во врача и пациента, продавца и покупателя или там пожарников, или космонавтов, а вот поди поиграй в менеджеров, фандрайзеров, коучеров…».
Впрочем, приток заимствований в сферу бизнеса легко объясним: не возрождать же исконно русские, но неприятные для уха: фабрикант, приказчик, делец или барышник.
Появление нового слова нетрудно заметить (но вот словари почему-то не успевают за стихией изменений). Гораздо меньше людей осознает, как на их глазах меняется речевой этикет. «За последние двадцать лет заметно сузилась сфера использования имен и отчеств. Отчество исчезло из тех сфер общения, которые наиболее подвержены иностранному влиянию, то есть из бизнеса (в политике — причудливая смесь нового бизнес-этикета и старого советского). Еще пятнадцать лет назад невозможно было вообразить себе ситуацию, когда человека без всякой иронии назовут Александром или Константином. Это было бы претенциозно и даже жеманно. Подобные имена использовались только вместе с отчеством». Теперь отчества исчеза-ют, но «…те, кто вырос после перестройки, воспринимают это как норму, те же, кто постарше, если и морщатся при таких обращениях, то не всегда понимают почему. Вот так мы и меняемся, даже не замечая этого».
Принять новые правила легче человеку молодому, но дело не только в возрасте. У многих есть нелюбимые слова, фразы или акценты. «Большинство людей даже не представляют, в каких сложных, а порой интимных отношениях они находятся со словами родного языка…» — пишет Кронгауз. Но речь идет не только об индивидуальной переносимости: есть целые группы и пласты слов, вызывающие у людей сильные эмоции: брань, молодежный жаргон, свежие заимствования, вроде лофт, комьюнити или интервью (в смысле собеседования), молодежные словечки и гламурные, жаргон, рисующий идеальный мир, с «правильными юношами или девушками, которые посещают правильные места и рассекают на правильных авто».
Похоже, нам легче общаться с теми, чья речь напоминает нашу собственную. Вспомним профессора Хиггинса из «Пигмалиона» Бернарда Шоу: «Фонетика и еще раз фонетика. Наука о произношении. Моя профессия и моя страсть. Я могу определить место рождения человека с точностью до шести миль, а в Лондоне — двух. Иногда даже в пределах двух улиц». Так вот, этот фанат фонетики обратил внимание на Элизу Дулитл благодаря ее в высшей степени вульгарному акценту, но полюбил-то ее лишь после того, как она освоила английскую норму. Так же и наш автор: как лингвист он готов все понять и простить, но как «просвещенный обыватель» не переносит некоторых отклонений от литературной нормы.
Итак, язык — инструмент социальной близости, и в этом есть определенная опасность, особенно для бизнеса. Дело в том, что в традиционных, сложившихся коллективах, будь то ткац-
кая фабрика, университетская кафедра или конструкторское бюро работают люди с общими корнями (они росли в одном городе, закончили одно ПТУ или вуз, смотрели одни фильмы или слушали лекции одного профессора). Поэтому у них легко вырабатывается общий язык. Иное дело — офис какой-нибудь крупной фирмы в Москве. Здесь нередко рядом оказываются бывший физик-ядерщик (ныне — менеджер по закупкам), выпускник отраслевого вуза с Украины (менеджер по строительству), девушка из питерского Иняза (офис-менеджер). Добавьте сюда руководителя с американским паспортом (выходца из Казахстана), и вы поймете, какая получилась гремучая лингвистическая смесь. Физик-ядерщик называет свой телефон мобильником, офис-менеджер — трубой, украинец — сотиком, а новый американец — вообще селюллярным фоном (когда он уезжал, в Казахстане не было сотовой связи).
И вот у кого-то все нутро выворачивается, когда он слышит, допустим, сотик. И как работать в такой обстановке? У самого Кронгауза нелюбимое слово блин (не в смысле «изделия из теста», а как присловье). «Этот заменитель матерного слова, или эвфемизм, кажется мне вульгарнее того, что он заменяет. Такое же неприятное ощущение от блина испытывают мои знакомые и коллеги...» Но лингвисту очевидно, что другие просто иначе воспринимают это слово. «Для многих это своеобразный маркер свойскости, близости с собеседником. Иначе говоря, у нас у всех своя языковая интуиция. Терпения и терпимости — желаю я сам себе — терпения и терпимости».
Но одно дело призывать к терпению, и совсем другое — упражняться в нем с утра до вечера. И вот в офисах возникают группировки: прежде всего, москвичи отделяются от приезжих, особняком стоит украинское землячество. Молодежь предпочитает не обращаться за помощью к бывшим военным и так далее. Бывшая учительница, став офис-менеджером, выиграла в зарплате, но на пятом десятке потеряла отчество и скорбит о молодости, когда ее называли Анной Яковлевной, а не просто Анной. Кто-то, подражая американскому начальнику, начинает называть свой телефон селлфоном, и его считают подлизой.
Чтобы заставить этот человеческий зоопарк приладиться друг к другу и работать вместе, нужно вдвое больше энергии. Исследования профессора Лондонской Школы бизнеса Линды Граттон доказывают, что чем разнообразнее состав команды по образованию и опыту, тем труднее люди срабатываются и тем неохотнее сотрудничают и делятся друг с другом информацией и знаниями.
Разные языковые группировки обладают различной энергией и витальностью. Как правило, постепенно происходит вытеснение из офисного обихода более литературных форм речи (а значит, и их более культурных носителей), если образуется критическая масса менее образованных или «неместных» людей. Это эффект «ухудшающего отбора» по языку. Казалось бы, для бизнеса это не важно — главное, чтоб дело делали. Но в компании просто необходимо сохранить слой людей, говорящих правильно, притом не только на ресепшн, а хотя бы для работы с крупным клиентом. Если в дизайнерской фирме утвердился собственный сленг — причудливая смесь компьютерной и гламурной лексики, кому-то из потенциальных заказчиков эта манера речи кажется глупой или развязной, и они уходят «к своим».
Профессор лингвистики Григорий Крейдлин говорит: «Владение литературной нормой — серьезное преимущество в бизнесе. В первую очередь там, где есть установка на точность, в письменных текстах и на переговорах». А вот опять из «Пигмалиона»: «Дайте мне три месяца, и эта девушка сойдет у меня за герцогиню на приеме в любом посольстве. Я даже смогу устроить ее горничной или продавщицей в магазин, где надо говорить совсем уж безукоризненно. Нашим миллионерам я оказываю услуги именно этого рода».
Итак, русский язык неоднороден, более того, он меняется. Он менялся всегда, иногда намного быстрее, чем теперь. Возвращаясь к нашему примеру: пока мы не слышим Никто ошибется, значит, норма крепка. И пусть молодежь говорит прикольно вместо неплохо и выражает свой восторг заимствованным словом вау — это не угрожает устоям государства. Гораздо хуже, если у человека арсенал языковых средств настолько скуден, что он не может сформулировать простейшую мысль. Но такие есть всегда и везде.
В интернете аффтар жжот или зачот обозначает одобрение, выпей йаду, убей сибя тапкам — неодобрение, ржунимагу, валялсо пацтулом — смешно, а многа букв неасилил — скучно, и это не безграмотность, а всего лишь орфографическая игра. Странно, что у кого-то она вызывает бурю негодования. Но то же наблюдалось при попытке так и не состоявшейся реформы правописания: «Люди разделились довольно резко и по чрезвычайно простому признаку. Лингвисты в подавляющем большинстве были за, нелингвисты — против… Аргументы приводили лингвисты, а нелингвисты в грубой форме требовали “оставить все, как было”. Татьяна Толстая даже предложила: “Надо заколотить двери Академии наук, где заседают эти придурки, и попросить их заниматься чем-то более полезным для народного хозяйства”».
По большому счету лингвист знает, что в орфографии можно реформировать и унифицировать что угодно (а вот в языке ничего изменить нельзя). Экономику регулирует государство, создавая правила и расставляя в ключевых точках бюрократов, которые контролируют их исполнение. Но посмотрите на какого-нибудь чиновника, который дает разрешение, скажем, на экспорт гвоздей в Кению. Ему нет дела ни до вашего бизнеса, ни до законов экономики (которыми, возможно, руководствовалось Минэкономразвития, вводя свой порядок). Главное, чтобы вы собрали 12 подписей, без которых он не сможет поставить решающую — свою собственную. Так вот, в русском языке (да и в любом другом) такого бюрократа нет — если не принимать во внимание редакторов и корректоров, но от них вреда гораздо меньше. Язык сам себя регулирует. Он либеральнее самой отчаянно рыночной экономики. Поэтому, наверное, ему и не нужны нобелевские лауреаты.