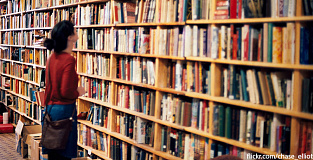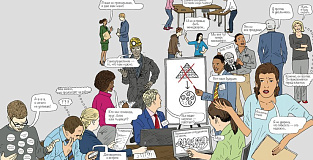читайте также
Могут ли крупные компании быть одновременно и инновационными, и эффективными? Да, как утверждают профессор Адлер из Университета Южной Калифорнии, профессор Хекшер из Ратгерского университета и господин Прусак, независимый консультант. Но им необходимо развивать новые организационные навыки, которые создадут атмосферу доверия, необходимую для интеллектуального труда, а также координационные механизмы, обеспечивающие его масштабируемость. В частности, такие организации должны научиться следующему:
определять общую цель, которая будет служить указателем, к чему сотрудники на всех уровнях организации вместе стремятся;
развивать культуру содействия, в которой наивысшая ценность придается людям, которые выходят за рамки своих конкретных ролей и способствуют достижению общей цели;
разрабатывать масштабируемые процедуры координации усилий сотрудников, чтобы деятельность по управлению процессами стала по-настоящему взаимозависимой;
создавать инфраструктуру, в которой сферы влияния отдельных лиц пересекаются, а сотрудничество ценится и поощряется.
Эти четыре цели могут показаться идеализированными, но, по словам авторов, их реально осуществить. Только предприятия, по-настоящему готовые к сотрудничеству, способные организованно использовать идеи каждого, смогут конкурировать достаточно изобретательно, быстро и экономически эффективно, чтобы стать известными брендами этого столетия.
Инженер-программист, которого мы назовем Джеймсом, живо помнит свой первый день в Computer Sciences Corporation (CSC). Первое же сообщение, которое он получил: «Вот ваши Инструкции» (да, именно с большой буквы «И»).
«Я думал, что приношу с собой знания, необходимые для моей работы, — вспоминает Джеймс. — Но, как ни странно, открываешь Инструкции, и там все подробно расписано: как оформить код, где в форме указать номер запроса на внесение изменений и так далее. Я был в шоке».
В этом подразделении CSC код больше не разрабатывается отдельными программистами, работающими в одиночку. Теперь они следуют Модели зрелости возможностей (CMM) — высокоорганизованному процессу, который Джеймс поначалу считал слишком бюрократическим: «Как у разработчика, у меня появилась сильная аллергия на всю эту бумажную волокиту. Она отнимала так много времени».
Но больше ему так не кажется. «Теперь я вижу в этом необходимость, — говорит Джеймс. — Теперь я всего лишь один из 30 или 40 человек, которым, возможно, придется работать над этим кодом, поэтому нам нужен номер запроса на внесение изменений, который каждый сможет использовать для своей идентификации. Я вижу, что это значительно упрощает работу».
То, к чему Джеймс присоединился в CSC, было не конвейером по написанию кода и не кучкой автономных хакеров, а организацией нового типа, которая превосходно объединяет знания разных специалистов. Мы называем такое предприятие сотрудничающим сообществом.
Сообщества, основанные на принципе сотрудничества, побуждают людей постоянно применять свои уникальные таланты в групповых проектах и мотивироваться общей миссией, а не только личной выгодой или внутренним удовольствием от автономного творчества. Чувство общей цели и поддерживающая структура позволяют такой организации мобилизовать таланты и опыт работников интеллектуального труда в гибких, легко управляемых групповых проектах. Такой подход способствует не только инновациям и гибкости, но также эффективности и масштабируемости.
Все большее число организаций, включая IBM, Citibank, NASA и Kaiser Permanente, пожинают плоды своего сотрудничества в виде более высокой рентабельности наукоемких работ. (Подразделения CSC, наиболее активно применявшие CMM, за шесть лет снизили уровень ошибок на 75% и добились ежегодного роста производительности на 10%, одновременно делая продукты более инновационными и технологически сложными.) Мы обнаружили, что для такого заметного успеха необходимо сделать четыре новых организационных шага:
определить и выработать общую цель;
развить культуру сотрудничества;
разработать процессы, позволяющие людям работать вместе в гибких, но упорядоченных проектах;
создать инфраструктуру, в которой сотрудничество ценится и вознаграждается.
Наши выводы основаны на многолетнем изучении организаций, которые демонстрируют высокую эффективность и инновационность. В нашей работе также использованы труды выдающихся социологов — Карла Маркса, Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма и Талкотта Парсонса. Эти классики пытались осмыслить масштабные экономические и социальные изменения, произошедшие в эпоху трансформации капитализма из мелкого производства в крупную промышленность. Наша эпоха представляет собой не менее важный сдвиг, поскольку мы переходим к экономике, основанной на умственном труде.
Общая цель
Социолог Макс Вебер выделил четыре основы социальных отношений, которые можно кратко описать как традицию, личный интерес, привязанность и общую цель. Конечно же, личный интерес лежит в основе деятельности любого бизнеса. Великие промышленные корпорации XX века также обращались к традициям для мотивации людей. И многие из самых инновационных компаний последних 30 лет — Hewlett-Packard, Microsoft, Apple, Google и Facebook* — черпали силу в сильной, широко укоренившейся привязанности к харизматичному лидеру.
Сосредоточившись на четвертой альтернативе — общей цели, — сообщества, работающие в сотрудничестве, ищут основу для доверия и организационной сплоченности, которая будет более прочной, чем личный интерес, более гибкой, чем традиция, и менее эфемерной, чем эмоциональная, харизматичная привлекательность Стива Джобса, Ларри Пейджа или Марка Цукерберга.
Подобно хорошей стратегии или видению, эффективная общая цель определяет, как группа будет позиционировать себя по отношению к конкурентам и партнерам и какие ключевые вклады в развитие клиентов и общества будут определять ее успех. Например, «компас ценностей» в Kaiser Permanente лаконично определяет общую цель организации следующим образом: «Лучшее качество, лучшее обслуживание, самые доступные цены, лучшее место для работы».
Эта общая цель — не выражение непреходящей сущности компании, оно описывает то, к чему стремится каждый ее сотрудник. Она направляет усилия на всех уровнях Kaiser: от бизнес-стратегии высшего руководства до совместного планирования в рамках уникального партнерства между сотрудниками и руководством компании, вплоть до работы команд по совершенствованию процессов в отдельных подразделениях. В этом отношении «компас ценностей» — это не столько видение, сколько признание задач, которые каждый член группы обязан решать ежедневно. (См. «В Kaiser Permanente танцуют все».)
В Kaiser Permanente танцуют все
Подразделение Kaiser Permanente в Калифорнии разработало новый протокол, получивший название «Танцуют все» (Total Joint Dance), который иллюстрирует, как сотрудничающие сообщества мобилизуют знания множества различных участников для достижения масштабируемых бизнес-результатов.
В 2008 году в больнице Irvine Medical Center решили оптимизировать самые дорогостоящие и трудоемкие операции: эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Задача была непростой, поскольку решение требовало сотрудничества специалистов, которые обычно борются за ресурсы.
Ни традиционная, ни независимая организация не смогли бы достичь этой цели. Как объяснил доктор Тадаси Фунахаси, заведующий отделением ортопедии: «У вас есть несколько хирургов из разных отделений, и каждый хочет делать это по-своему». Более того, большинство сотрудников и клиентов страховых компаний Kaiser состоят в профсоюзах. Сотрудничество с профсоюзами имело решающее значение, поэтому ни административные распоряжения сверху, ни подход, ориентированный на хирургов, были невозможны. Сотрудничество в Kaiser было формализовано в рамках «Партнерства по управлению трудовыми ресурсами» — совместной структуры управления, включающей руководство и большинство рабочих профсоюзов Kaiser.
В мае 2008 года была собрана команда, состоящая из операционных медсестер, хирургов, техников и других специалистов. Эта группа проанализировала каждый этап процесса.
«Обычно, когда мы находимся в операционной, нам хочется, чтобы все было сделано по-другому, — сказала операционная медсестра, входившая в группу по повышению эффективности. — Но на этот раз мы действительно получили возможность высказать свое мнение о том, как это сделать по-другому».
Повышение эффективности было достигнуто за счет трех видов изменений. Первый определял этапы последовательного процесса, которые можно было выполнять одновременно. Например, обслуживающий персонал мог начинать уборку, когда хирург начинает накладывать швы, а не ждать, пока пациент покинет операционную.
Вторым типом изменений стали триггеры: сигналы сотруднику о том, когда приступить к выполнению определенной задачи, — например, оповещение послеоперационного отделения и отделения транспортировки о том, что операция заканчивается и пациент будет готов к транспортировке через 15 минут. Это может показаться тривиальным, но требует от сотрудников думать не только о своей работе, но и о том, как их роли сочетаются с ролями других людей.
Третьим изменением стало введение должности «плавающей» медсестры, которая могла бы перемещаться между операционными для оказания дополнительной помощи или смены персонала во время перерывов. Эта дополнительная функция обходится дорого, но окупается сокращением времени цикла — компромисс, который упускают руководители, сосредоточенные исключительно на деньгах.
Эффект от сочетания лучшей координации с увеличением ресурсов был «как день и ночь», как описывает это доктор Фунахаси: «Это разница между хорошо организованной, слаженной командой и тем, что происходит в изначально хаотичном состоянии».
Благодаря этим трем изменениям количество операций по эндопротезированию всего тазобедренного и коленного суставов увеличилось с одной-двух до четырех в день, а среднее время выполнения между процедурами сократилось с 45 до 20 минут. Улучшение координации позволило высвободить 188 часов операционного времени в год, что в среднем экономит $132 000 в год в расчете на одну операционную.
Пациенты и сотрудники также стали более довольны результатами. Опросы персонала операционных в одном из учреждений Kaiser показали 85-процентное повышение удовлетворенности работой после внедрения нового протокола.
Возможно, наиболее значимым с организационной точки зрения является масштабируемость достигнутых результатов. Например, эти методы были приняты отделением общей хирургии, а также отделениями хирургии головы и шеи, урологии, сосудистой хирургии и другими хирургическими направлениями в больнице Irvine. Этот подход распространился и на другие больницы Kaiser.
Руководителям часто трудно сформулировать такую общую цель, они прибегают либо к возвышенным истинам («Мы будем радовать наших клиентов»), либо к простым финансовым показателям («Мы увеличим выручку на 20% в год»). Действительно, разработка общей цели может быть долгим и сложным процессом.
Например, IBM, которой в 1990-х годах нужно было переориентировать своих сотрудников с продажи «крупного железа», потратила десятилетие на формирование общего понимания интегрированных решений и клиентоориентированности, выходящего за рамки упрощенной риторики. Долгие годы менеджерам среднего звена и техническим специалистам было сложно сформулировать эти концепции на практике. Они не понимали на операционном уровне, что значит для компании предлагать не только свои продукты, но и продукты других поставщиков, и продавать клиентам не просто то, что предлагает IBM, а именно то, что им нужно и когда им это нужно. Сегодня эти общие цели стали частью языка, на котором ежедневно говорят сотрудники разных отделов и уровней IBM, совместно преодолевая трудности.
При правильном понимании общая цель — мощный организующий принцип. Возьмем, к примеру, e-Solutions, подразделение, насчитывающее около 150 человек, созданное в апреле 2000 года в рамках подразделения управления денежными средствами Citibank для противодействия конкурентной угрозе со стороны AOL, клиенты которой уже пользовались банковскими услугами, торговали акциями и покупали паевые инвестиционные фонды онлайн. Чтобы решить эту задачу, Citibank стремился увеличить темпы роста своего основного бизнеса по управлению денежными средствами и торговле с 4% до примерно 20%.
Но это была лишь бизнес-задача. Общей целью, стоящей за этим показателем, было стремление стать лидером в создании новых и сложных продуктов онлайн-банкинга, которые можно было бы быстро адаптировать к потребностям клиентов. Для полного понимания этой цели требовались масштабное обсуждение и общее понимание конкурентных позиций компании в отрасли, эволюции потребностей клиентов и уникальных возможностей организации.
Общая цель — это не просто слова на плакате или в документе, она не формируется харизматичными лидерами. Она многомерна, практична и постоянно обогащается во время обсуждения конкретных задач. Поэтому, когда мы спрашивали менеджеров e-Solutions, почему они работают над тем или иным проектом, они не отвечали: «Потому что это моя работа» или «Это то, что приносит деньги». Вместо этого они говорили о том, как проект будет способствовать достижению общей цели.
Культура содействия
Сообщества, работающие в сотрудничестве, разделяют особый набор ценностей, который мы называем культурой содействия. Она придает наивысшую ценность людям, которые выходят за рамки своих конкретных ролей и способствуют достижению общей цели.
Совместный подход отвергает идею просто «хорошего выполнения работы», если это не вносит реального вклада. Практически вековой опыт традиционной модели показал, что каждый может усердно работать индивидуально, не добиваясь при этом хорошего коллективного результата. Культура содействия означает выход за рамки своих формальных обязанностей для решения более широких задач, а не просто приложение больших усилий. Она также отвергает сильный индивидуализм рыночной модели и вместо этого делает акцент на работе внутри группы (вместо попыток добиться индивидуального контроля или ответственности) и раскрытии наилучшего вклада каждого члена группы в общее благо.
Обратите внимание на то, как инженеры-программисты в CSC рассматривают так метко названную «модель зрелости возможностей». «Более зрелый процесс означает переход от свободы делать все по-своему к тщательному анализу, — признает один инженер. — Это означает переход от хаоса к структуре». Такая структура помогает этим работникам умственного труда лучше осознавать свою взаимозависимость, что, в свою очередь, способствует переходу от культуры индивидуального творчества к культуре содействия. Другой инженер использовал такую аналогию:
«Это немного похоже на сравнение стритбола и профессионального баскетбола. Стритбол — это хулиганство, хвастовство. Вы играете за себя, а не за команду, и делаете это из любви к игре. В профессиональном баскетболе вы — часть команды, много тренируетесь вместе, выполняете упражнения и играете в тренировочные матчи. Вы делаете это не только для себя и не только для своей команды: в процесс вовлечены и другие люди — менеджеры, юристы, агенты, рекламодатели. Это бизнес, а не просто игра».
Доверие, порождаемое культурой содействия, не столь само собой разумеющееся, как доверие в традиционных организациях, прочно укорененное в общем наборе правил, выраженных через символы общей культуры. (Например, в IBM многие годы все «хорошие» сотрудники носили одинаковые шляпы.) Но оно также менее изменчиво, чем доверие, основанное на вере в харизматичного лидера, и ослепительных проявлениях индивидуального гения. Доверие в сообществах, основанных на сотрудничестве, возникает из того, насколько каждый член группы верит в способность и готовность других членов группы содействовать достижению общей цели. (См. «Три модели корпоративного сообщества».)
Три модели корпоративного сообщества
Традиционные предприятия формируют институциональную лояльность; сообщества независимых агентов способствуют развитию индивидуализма. Ни один из этих типов организаций не создает условий для доверия и сотрудничества, необходимых современному бизнесу.
1. Традиционная индустриальная модель
Тесно взаимосвязанные сообщества скреплены прочными общими ценностями и традициями: четкими ролями, постоянными возможностями продвижения по службе, гарантиями занятости и льготами. Сочетание лояльности и бюрократической структуры позволяет таким организациям достигать беспрецедентных масштабов, но делает их негибкими и медлительными в плане инноваций.
2. Модель независимого агента
Эти организации инновационны и гибки. Они отказываются от правил, процедур и уважительных иерархических отношений в пользу индивидуальных усилий и вознаграждения. Лояльность основана на привязанности к харизматичным лидерам. Эта модель эффективна для модульных проектов, но слабые организационные связи затрудняют создание разветвленной командной структуры, необходимой для наукоемкой работы.
3. Модель сообщества, основанного на сотрудничестве
Эти сообщества организованы вокруг чувства общей цели и координируются посредством совместно разработанных и тщательно задокументированных процедур. Они убеждены, что разнообразие возможностей стимулирует инновации. Такие организации преуспевают во взаимозависимой наукоемкой работе.
Учитывая эту разницу в ценностях, люди, работающие над совместными проектами в крупных организациях, могут столкнуться с разногласиями, возникающими как между лояльными, так и между независимыми агентами в своей среде. Например, сотрудники e-Solutions, работающие в традиционном Citibank, с подозрением отнеслись к тенденции обсуждать тех, «кого ты знаешь», вместо того чтобы сосредоточиться на текущей задаче.
«У каждого свои сигналы, которые он ищет, — сказал один из участников. — Если кто-то приходит на первую встречу и начинает перечислять имена тех, кого он знает, меня это бесит, потому что это означает: вместо того чтобы сосредоточиться на возможностях и рыночном предложении, он пытается завоевать доверие, хвастаясь знакомыми и теми, с кем общался… В конечном итоге это ни на йоту не продвинет вас в дальнейшей работе».
Внедрение взаимозависимых процессов
Конечно, общая цель теряет смысл, если люди с разными навыками и обязанностями не могут вносить вклад в ее достижение и во взаимодействие друг с другом. Хотя традиционные бюрократические структуры преуспевают в вертикальной координации, они не слишком хорошо развивают горизонтальные отношения. Сообщества независимых агентов преуспевают в спонтанном сотрудничестве, но менее успешны в масштабных взаимозависимых проектах.
Ключевым координационным механизмом сотрудничающего сообщества, которое часто состоит из пересекающихся команд, является процесс согласования общей цели внутри и между проектами. Мы называем этот тип координации управлением взаимозависимыми процессами, включающим в себя ряд методов, в том числе кайдзен, пошаговое улучшение процессов и формальные протоколы для мозгового штурма, управления совещаниями с участием различных заинтересованных сторон и принятия решений с участием множества заинтересованных лиц. Например, CMM с хорошо разработанными методами позволяет инженерам-программистам CSC быстро адаптировать проверенные процедуры управления проектами к потребностям текущего проекта.
Управление взаимозависимыми процессами является эксплицитным, гибким и интерактивным. Процессы, как правило, тщательно разрабатываются и фиксируются в протоколах, но постоянно пересматриваются по мере изменения требований работы и клиентов. Они формируются в большей степени людьми, участвующими в решении задачи, чем теми, кто находится наверху. Как сказал один из руководителей проектов CSC: «Люди поддерживают то, что помогают создавать… Как руководитель проекта, вы слишком далеки от технической работы, чтобы самостоятельно определять [процессы]… Только привлекая ключевых сотрудников, вы можете быть уверены в наличии добротных [процедур], пользующихся доверием коллег».
Взаимозависимые процессы формируются в большей степени людьми, участвующими в решении задачи, чем теми, кто находится наверху.
В e-Solutions взаимозависимость нашла свое отражение в «дорожной карте электронного бизнеса», которая была доступна онлайн всем сотрудникам компании, служила шаблоном для новых проектов и постоянно обновлялась и дорабатывалась. Новые команды создавали собственные карты, чтобы использовать их при определении своих ролей и обязанностей.
В обществе, где все работают сообща, любой может инициировать изменения, если того требует его работа, но для определения последствий для других участников и обеспечения их общего понимания необходимы серьезные обсуждения. Руководитель Citibank e-Solutions описал это так:
«Кто отвечает за карту процесса? Мы все. У каждого из нас своя точка зрения — будь то на конкретных партнеров, продукты или отношения в целом. Когда мы вносим изменения, об этом сообщают всем. Мы проводим совещания команды, обсуждая задачи; каждый понимает свою роль. Изначально это были только я и еще пара человек; когда мы разделили обязанности по реализации проекта, нам пришлось переделать все заново».
Поддерживать такой тип управления процессами сложно. Он требует от людей, привыкших к более традиционным системам, сформировать радикально новые привычки. Как в бюрократических, так и в рыночно ориентированных организациях людям ставят цели и устанавливают процедуры, но, как правило, им предоставляют свободу действовать в рамках этих границ. Совместное управление процессами нарушает эту автономию — оно требует от людей постоянной адаптации к потребностям других. Принятие ценности этой взаимозависимости часто бывает сложным, а привычкам к документированию и обсуждению может потребоваться значительное время, чтобы укорениться. Один из руководителей в Johnson & Johnson рассказал о трудностях своей команды:
«Команда признала, что есть проблемы с несогласованностью. В результате мы сели всей командой и изложили все на бумаге. Идея заключалась в том, что бы я мог просто вернуться к какому-то нашему прежнему решению и сказать: “15 мая мы приняли решение X, Y и Z”. Через день этот план устарел. Мы согласовывали, меняли даты, меняли приоритеты и не обновляли документ. Главная проблема — неформальные обсуждения между двумя людьми. Они принимают решение, не информируя остальную команду. Главное — периодически пересматривать его из-за изменения ситуации. Нам нужно вести и обновлять документ по мере обсуждения».
Создание инфраструктуры для совместной работы
Если работа организована в командах и сотрудники все чаще работают в нескольких из них, возникает потребность в новом типе структуры управления — с пересекающимися сферами влияния. Мы называем это коллективной централизацией. Она коллективна, потому что совместное предприятие стремится мобилизовать знания каждого; она централизована, потому что эти знания должны быть скоординированы для масштабного применения. Один из участников e-Solutions привел типичный пример:
«На самом деле у нас три руководителя подразделения. Один из них отвечает за мою зарплату, но с профессиональной точки зрения они одинаково важны. Один из них говорит мне, что делать на тактическом уровне, другой — об общем направлении и видении. Преимущество в том, что есть несколько человек, которые могут играть несколько ролей, поэтому мы можем получать ресурсы из разных источников. В электронной коммерции очень полезно быть гибким в этом плане. В конечном счете ясно, кто принимает решения, но до этого редко доходит. Я бы не сказал, что решения никогда не переносятся; я бы сказал, что такие матричные структуры побуждают к большему количеству вопросов и обсуждений, что, на мой взгляд, хорошо, потому что при более строгой организационной иерархии люди менее охотно доносят информацию до начальства».
Если то, что описывает этот автор, кажется матричной структурой, то так оно и есть. Матричная структура была опробована многими компаниями в последние десятилетия, и процент ее провалов высок, поэтому люди часто считают ее неудачной. Но матричные структуры на самом деле предлагают огромное конкурентное преимущество именно потому, что их так сложно поддерживать. Они одновременно поддерживают и сами подкрепляются другими характеристиками модели сотрудничества: общей целью, культурой сотрудничества и взаимозависимым управлением процессами. Без этих опор матричная модель рушится под тяжестью политических прений.
Системы оплаты труда не являются основными факторами мотивации в организациях, ориентированных на сотрудничество. Со временем люди будут испытывать недовольство, если почувствуют, что их заработная плата не отражает их вклада, но их повседневное принятие решений не направлено на максимизацию своего вознаграждения. Скорее, оперативная мотивация — это то, что Трейси Киддер в книге «Душа новой машины» метко назвала теорией управления «пинболом»: если выиграешь, сможешь сыграть еще раз — принять новый вызов, выйти на новый уровень. В более широком смысле люди много говорят о вкладе друг друга, поэтому сообщества, ориентированные на сотрудничество, формируют относительно точную систему репутации, которая становится основой для отбора людей для участия в новых и интересных проектах.
С другой стороны, системы оплаты труда должны быть справедливыми. Учитывая, что формальные руководители не могут контролировать все, что делают подчиненные в разных отделах по различным проектам, организации, ориентированные на сотрудничество, в значительной степени полагаются на ту или иную форму обратной связи из нескольких источников, основанной по методу 360 градусов.
Революция сотрудничества
Мы не хотим преуменьшать неоспоримые сложности построения сообществ, основанных на содействии. Создание и согласование процессов, объединяющих людей в разных командах, требует постоянного внимания. Не каждый звездный игрок, которого вы, возможно, захотите привлечь, захочет пожертвовать автономией ради вознаграждения за командные усилия. Справедливое распределение оплаты труда в соответствии с вкладом — непростая задача.
Действительно, мы обнаружили, что терпение и навыки, необходимые для создания и поддержания чувства общей цели, редко встречаются в корпоративных иерархиях, особенно учитывая, что это то, что можно «установить и забыть». Цель должна постоянно пересматриваться по мере развития рынков и клиентов, а членам сообщества следует постоянно участвовать в формировании и понимании сложных коллективных миссий. Такое участие требует больших затрат и времени. И харизматичные лидеры, которые считают, что им надо просто следовать своей интуиции, часто не одобряют такой подход к ведению бизнеса.
Более того, как показывает опыт IBM, развитие сообщества, ориентированного на совместную работу, — это долгосрочная инвестиция, которая находится в противоречии с многочисленными краткосрочными конкурентными и финансовыми факторами, с которыми компаниям приходится справляться. Поэтому мы не представляем себе дня, когда все компании будут полностью организованы в сообщества, ориентированные на совместную работу.
Однако мало кто станет спорить с тем, что на сегодня важнейшая задача для рынка — внедрять инновации достаточно быстро, чтобы не отставать от конкурентов и потребностей клиентов, одновременно снижая затраты и эффективность, — может быть удовлетворена без активного вовлечения сотрудников, выполняющих различные функции и находящихся на разных уровнях ответственности. Для этого компаниям нужно гораздо больше, чем просто минимальное сотрудничество и соблюдение требований. Им необходимы идеи каждого о том, как делать работу лучше и дешевле. Им нужно настоящее сотрудничество.
Сто лет назад несколько компаний с боем создавали организации, достаточно надежные, чтобы воспользоваться преимуществами формирующейся экономики массового потребления. Те, кому это удалось, стали известны на весь мир: General Motors, DuPont, Standard Oil. Сегодня надежность больше не является ключевым конкурентным преимуществом, мы находимся на новом переломном этапе. Организации, которые станут узнаваемыми в этом столетии, будут известны своими устойчивыми, масштабными и эффективными инновациями. Ключ к этой способности — не лояльность компании и не автономия независимых агентов, а, скорее, сильное сообщество, ориентированное на сотрудничество.
Версия этой статьи была впервые опубликована в номере журнала Harvard Business Review за июль — август 2011 года.
* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена