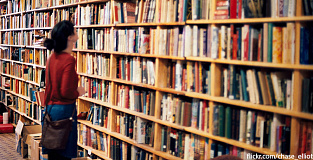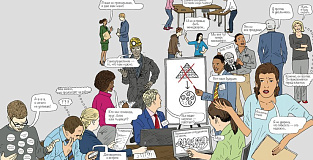читайте также
Бизнес переходит от цифровизации, когда традиционные бизнес-модели трансформируются в цифровые, к интеллектуализации, когда компании становятся автономными за счет применения искусственного интеллекта. Для построения «умной» компании нужна новая — гибкая — операционная модель. Она базируется на тримодальной концепции, которая включает три измерения управления: операционная деятельность, изменения и инновации.
Предложенная консалтинговой компанией Gartner модель делит корпоративный ИТ-портфель на продукты RUN, CHANGE и TRANSFORM. «Сбер», перенеся идею из ИТ в корпоративное управление, ввел в деловой обиход скорректированную тройку - RUN, CHANGE, DISRUPT. Но именно сейчас разделение стало критическим: смешивать ежедневные рабочие процессы (RUN), проекты и продукты (CHANGE) и прорывные эксперименты (DISRUPT) оказывается слишком затратным делом.
В эпоху «умной» экономики данные поступают быстрее, чем аналитики способны их обрабатывать, а алгоритмы принимают решения раньше, чем менеджер успевает среагировать на событие. На этом фоне тримодальная операционная модель конвертируется в конкурентоспособность бизнеса.
Исследование «Корпоративные инновации 2025», проведенное «Акселератором ФРИИ», показало: почти 20% корпораций не имеет формализованного плана по развитию инноваций. Они могут продвигать новшества на уровне отдельных проектов и инициатив, однако им не хватает четкого системного видения. Между тем, умное управление ИТ, где инновационные инициативы органично вписываются в общую стратегию развития компании, позволяет получать на 74% больше выручки от цифровых продуктов.
Цифровой двойник как основа «операционки»
Операционная деятельность (RUN) не сводится к следованию регламентам. Это высокоточная система, нацеленная на эффективность, где каждая транзакция и каждое движение людей превращаются в данные. Ключ к скорости и предсказуемости бизнеса — полный «цифровой двойник» предприятия: чтобы процессы стали самоуправляемыми, они сначала должны быть описаны, стандартизированы и оцифрованы, а затем пропущены через Process- и Task-mining (process mining — процессная аналитика, технология, которая выявляет «узкие места» в бизнес-процессах, анализируя данные из корпоративных информационных систем; task-mining — технология, позволяющая достоверно воссоздать последовательность действий в рамках бизнес-операций — прим. ред.), которые вскрывают узкие места и готовят почву для автономизации.
В России как минимум 22% крупных компаний используют цифровые двойники, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Например, цифровая модель производства на НПЗ «Газпром нефтехим Салават» помогла сократить незапланированные остановки агрегатов на 30%, ускорить поиск причин сбоев на 40%, а также сэкономить до 20% капитальных затрат на бурение. Такие технологии внедряют промышленные предприятия, ритейлеры, логистические компании и целые города. Так, цифровой двойник Москвы помогает планировать строительство новых объектов, контролировать транспортные потоки и выполнение работ в сфере ЖКХ.
Когда цифровой двойник построен, компания делает еще один шаг — внедряет мультиагентную ИИ-архитектуру. Вместо диспетчера и начальника смены потоками закупок, отгрузок и логистики начинает управлять команда виртуальных ИИ-агентов. Они принимают микрорешения быстрее человека и не устают, оставляя людям исключительно те задачи, где ценится творчество и интуиция.
Например, DHL использует ИИ-агентов для координации складских роботов, динамического перераспределения ресурсов и предсказания сбоев в цепях поставок. Агенты самостоятельно корректируют маршруты при изменении погодных условий или задержках на таможне. Технология сокращает время доставки на 25% и уменьшает затраты на логистику на 15—20%. На складах Amazon ИИ-агенты координируют работу роботов-погрузчиков, оптимизируют хранение товаров и маршруты комплектования заказов. Система самостоятельно перераспределяет задачи между роботами при пиковых нагрузках. Такая организация работы увеличила производительность склада на 30% и снизила долю ошибок при комплектации до 0,1%.
В X5 Group ИИ-агенты прогнозируют спрос на товары, автоматически корректируют цены и управляют поставками. Система учитывает сезонность, погоду и локальные события, увеличивая продажи на 10—15% и сокращая остатки на складах на 30%.
К такой автономии придет «умная» компания, если будет серьезно относится к интеллектуализации бизнеса. Автоматизация высвобождает ресурсы: по нашему опыту, в среднем на операционную деятельность приходится около 70% времени и бюджета, но рутинные операции выполняются все меньшими трудозатратами. Освободившийся интеллектуальный потенциал перетекает в CHANGE и DISRUPT, повышая производительность труда и ускоряя проекты и инновации без увеличения фонда оплаты труда.
На уровне RUN — строгая культура, в основе которой дисциплина, нулевая толерантность к ошибкам и жесткий контроль бюджета, где каждая копейка имеет значение. При этом клиент вправе рассчитывать на безукоризненное качество. Парадоксально, но именно такая жесткость позволяет экспериментировать в соседних измерениях: убрав творческую неопределенность из операционки, компания дает ей зеленый свет там, где она действительно нужна.
В результате для управленца RUN превращается в надежный «автопилот»: он снижает себестоимость, повышает прозрачность и делает бизнес менее зависимым от человеческих ошибок. А главное — создает устойчивую платформу, на которой CHANGE ускоряет трансформацию, а DISRUPT добывает будущий кратный рост бизнеса.
Трансформация на двух скоростях
Если RUN отвечает за идеальный ритм работы компании сегодня, то модальность CHANGE определяет завтрашний день. Это «двухскоростной двигатель»: тяжелые инфраструктурные перемены продолжают идти по классической каскадной модели, в то время как быстрые функции, ориентированные на клиента, организованы в продуктовых командах, работающих по Agile. Сосуществование этих подходов обеспечивает гибкость без потери надежности.
В последние два-три года локальный Agile перестал быть экзотикой и масштабируется до уровня всего предприятия. Телеком- и финтех-компании уже проводят регулярные PI-планирования (Program Increment Planning — регулярные встречи, которые помогают сфокусировать сквозные команды, — прим. ред.), получая существенные эффекты для бизнеса. Например, PayPal таким образом удалось сократить задержки при сдаче обновлений в продуктах на 30%, а Фондовая биржа Сан-Паулу увеличила количество привлекаемых клиентов в 10 раз за счет ускорения циклов разработки.
Такая эволюция ведет к стиранию границы между бизнесом и ИТ — цифровые продукты рождаются там, где сейлз, менеджер и разработчик сидят за одним столом. Для зрелых компаний это уже не теория, а будни — в кросс-функциональных составах работают и банки, и ритейлеры, и тяжелая промышленность.
Подобная структура требует разворота от вертикальной функциональной пирамиды к матричной сетке. Сотрудник проводит львиную долю времени в операционке, но часть своей энергии инвестирует в проектные и продуктовые инициативы. Это повышает лояльность и упрощает привлечение «цифровых» талантов, привыкших к гибким форматам.
На уровне культуры эта модальность живет правилом «результат важнее процесса». Если в операционной деятельности важна дисциплина и предсказуемость, то в управлении изменениями — скорость и эффект каждого релиза. Это воспитывает привычку демонстрировать улучшение цифрового продукта каждую итерацию.
Примерно 20% бюджета и времени приходится на CHANGE, и этого хватает, чтобы постоянный поток проектов наполнял RUN зрелыми решениями и одновременно подогревал инновационный аппетит DISRUPT.
На практике компании осознают преимущества такого подхода: 77,3% организаций планируют развитие по принципу «долгосрочная цель + ежегодная корректировка тактики», то есть вынужденно держат два управленческих темпа одновременно. Этот двухскоростной ритм практически описывает границу между контурами операционной деятельности и управления изменениями: первый обеспечивает стабильность, второй внедряет улучшения итерациями, не останавливая операционное «сердце» бизнеса.
Инновации по своим правилам
Третье измерение — управление инновациями — выводит компанию из привычной системы отсчета «квартал — год» в совершенно другой ритм, где счет идет на гипотезы и MVP. Инновациями нельзя заниматься между делом, поэтому большинство зрелых игроков выделяют под них отдельную функцию (лабораторию или R&D-центр) и закрепляют около 10% бюджета и людей, необходимых для прорывных проектов.
У лаборатории есть привилегия «зеленого коридора». Чтобы идея не увязла в бюрократии, вводят fast track-бюджетирование: деньги идут быстрее согласований, а контроль смещается с детального план-факта на прозрачные рамки соотношения риска и ожидаемого бизнес-эффекта. Любая попытка навязать регламенты, применяемые в операционной деятельности, оборачивается потерей скорости и в итоге — смысла самой модальности DISRUPT.
Культура инноваций принципиально иная. Для нее характерна смелость, высокая толерантность к ошибкам и предпринимательская свобода. Девять из десяти идей погибают, но десятой может хватить для того, чтобы открыть новый рынок. Работает продуктовый подход с короткими циклами: гипотеза — прототип — пилот, и так до тех пор, пока метрики не покажут жизнеспособность гипотезы.
Такой оазис творчества жизненно важен, но одновременно хрупок. Это как огонь: если не оградить, выжжешь операционку; если задуть — погаснет искра будущего роста.
Три шага к тримодальности
Главное — зафиксировать тримодальность на уровне корпоративной стратегии, иначе все шаги окажутся бесполезными. В документ первого уровня включают отдельные векторы и дерево целей для операционной деятельности, управления изменениями и инноваций, к ним привязывают систему метрик и ключевых результатов. Когда стратегическая карта отражает три фокуса одновременно, любые дискуссии о приоритетах заканчиваются быстро и без эмоций — у каждой модальности свой набор метрик и зона ответственности.
Затем компания меняет геометрию: вместо вертикальной функциональной пирамиды выстраивается матричная сетка. Механизм кросс-функционального взаимодействия превращает ИТ и бизнес в смешанные команды. Без такой «сетевой мышцы» CHANGE теряет скорость, а DISRUPT — подпитку экспертизой.
Третий шаг затрагивает самое чувствительное — корпоративную культуру. Если стратегия задает курс, а структура — механику, то культура обеспечивает тягу; без нее тримодальность буксует. Компания переходит на режим постоянного эксперимента, формирует высокую толерантность к ошибкам и поощряет предпринимательскую смелость. Нужны носители новых поведенческих паттернов: внутренних чемпионов выращивают через программы развития, а недостающие навыки привлекают с рынка.
Начинать проще с «островка» — пилотного подразделения, где творческая атмосфера DISRUPT и дисциплина RUN смогут мирно сосуществовать и доказать жизнеспособность модели, прежде чем она масштабируется на весь холдинг.
В мире работоспособность тримодальной концепции уже доказана на практике. Так, телеком-холдинг AT&T на уровне RUN обеспечивает стабильную работу сетей и услуг связи, на уровне CHANGE — модернизирует сети до 5G и внедряет программно-определяемые сети (SDN), на уровне TRANSFORM — создает инновационные услуги на основе периферийных вычислений и партнерства с технологическими компаниями для развития интернета вещей. Другой пример — DBS Bank (Сингапур). Операционные задачи включают поддержку высоконадежных транзакционных систем, таких как обработка платежей и управление счетами. Одновременно банк адаптируется к новым условиям — модернизирует мобильный банкинг и внедряет цифровые услуги для улучшения клиентского опыта. Стратегическая цель, трансформирующая бизнес, — создание экосистемы на основе API-партнерств с финтех-компаниями и запуск полностью цифрового банка Digibank.
Зафиксировав стратегию, перестроив оргструктуру и перезагрузив культуру, бизнес получает три слаженных двигателя вместо одного перегруженного. RUN обеспечивает бесперебойную работу, CHANGE дает скорость трансформации, DISRUPT открывает новые рынки — и все это не мешает, а усиливает друг друга, потому что у каждого измерения свой бюджет и свои правила игры.