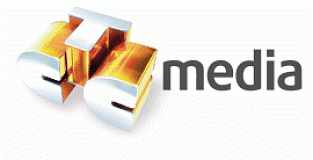читайте также
Один из самых именитых учителей истории, автор учебников и пособий Леонид Кацва всю жизнь преподает в известной московской гимназии. 37 лет он наблюдает за тем, как меняется школа, ученики, система образования и с горечью заключает: период надежд и широких перспектив сменяется упадком и регрессом.
Почему вы стали учителем истории?
Я рано выбрал профессию. Уже в шестом классе я знал, что буду профессионально заниматься историей. Это увлечение передалось мне по наследству: отец — историк, оба деда интересовались историей. Поступить в МГУ в 1975 году я не мог: людей моей национальности туда почти не принимали. Я пошел в пединститут, после окончания попал по распределению в школу, начал там работать — и увлекся. Когда я отработал год, сослуживица, ставшая для меня наставником, сказала: «Хочешь уходить — уходи сейчас. Через три года сделать это трудно, через пять — очень трудно, через десять не уходят».
Почему?
Школа затягивает, как воронка. После нее трудно найти себя в другой работе. Привыкаешь крутиться среди людей. Уйти из школы и сесть за письменный стол — значит выпасть из активной жизни.
Каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки работы учителя?
Недостатки более очевидны. Это нервная и выматывающая работа. Вменяемый учитель часто испытывает неудовлетворение: то урок не так провел, то дети чего-то не поняли. Это постоянное самоизгрызание.
Когда я пришел в школу, старший коллега сказал мне: «Поработаешь год-другой и поймешь, что уроки здесь — не главное». Действительно, помимо преподавания, у учителя много дел, особенно если он классный руководитель: нужно проводить разные мероприятия — иногда разумные, иногда бессмысленные, нужно неформально общаться с детьми. Это, с одной стороны, приносит удовлетворение, а с другой, когда что-то не получается, вытрясает из тебя душу. Классное руководство требует больших усилий — нервных, моральных, психологических. Это тяжело: уголь не грузишь, а домой приходишь — падаешь.
О материальном аспекте говорить не буду — это всем известно. Надо сказать, однако, что в Москве сегодня на учительскую зарплату можно существовать. А в провинции — нет: мой друг — человек невероятной квалификации и фантастической эрудиции — при 40-часовой нагрузке получает максимум 20 тысяч рублей. Это безобразие.
Но есть и преимущества. Например, учителя сравнительно долго не старятся. Мы шутим, что мы подсасываем энергию у детей. Если серьезно, то учитель чувствует свою востребованность. Мы видим, как постепенно меняются дети, понимаем, что мы им нужны. Крутиться среди молодых — полезно и приятно.
Как изменилась школа за годы вашей работы?
Во-первых, исчезли комсомол, пионерская организация и все ритуалы, которые были с ними связаны. Школе это на пользу, поскольку из детских и молодежных эти организации превратились в инструмент воспитания и давления на детей.
Во-вторых, отменили обязательную школьную форму. Да, иной раз детям приходится напоминать, что школа — не дискотека и одеваться нужно прилично. Но если выбирать между чрезмерно свободным видом и школьной формой, я выберу свободный вид, потому что школа не должна напоминать казарму. Взрослые женщины, если видят, что они одеты в одинаковые блузки, шарахаются друг от друга. Почему мы должны заставлять 16—17-летних девушек ходить в одинаковой одежде? Дети не должны привыкать к однообразию. Аргумент, что школьная форма нивелирует социальные различия, не выдерживает критики: дети ходят в школу в джинсах и футболках и меряются не одеждой, а гаджетами.
В-третьих, если говорить об учебе, самым большим завоеванием 1990-х, которое сохранялось в 2000-е и, к сожалению, скоро может исчезнуть, стала вариативность. Появились профильные классы, школы и возможность заниматься по разным учебникам. То, что сейчас постепенно возвращаются единые учебники, что собираются вводить обязательные ЕГЭ по каким-то предметам, — пагубная тенденция.
А как, на ваш взгляд, изменились дети?
Они стали гораздо свободнее. Иногда под свободой понимают развязность: «Разве мы себя так вели, как теперешние дети?!». Вели, иногда и хуже. Но я имею в виду не развязность, а внутреннюю свободу: у них нет генетического страха, предрасположенности к хождению по струнке, по линейке, к казарменности.
Как вы оцениваете практику слияния школ?
Многие директора радуются слиянию. Это объяснимо: у них повышается зарплата, увеличивается коллектив, значит, легче заменять учителей, обеспечивать им нагрузку. Я знаю школы, где учителя ведут по 30 часов и больше. Это выгодно: растет средний уровень заработной платы, школа хорошо выглядит в отчетах. В моей школе такого нет: директор справедливо полагает, что такая нагрузка неизбежно приводит к халтуре.
Мне кажется, большой минус слияния — уничтожение уникальных педагогических и детских коллективов. Часто объединяют школы, совершенно не совместимые по педагогической концепции, по контингенту и т. д., — и там начинаются серьезные конфликты и проблемы.
Школа очень страдает от бесконечных перетрясок и пертурбаций. Если бы нам дали поработать спокойно, чтобы между реформами были хоть какие-то паузы, было бы лучше. Ехать в транспорте, когда тебя все время подкидывает на ухабах, невозможно.
Что вы думаете о ЕГЭ?
Его плюсы очевидны. Во-первых, он позволяет ребенку из провинции попытаться поступать в вуз крупного города, не тратясь на дорогу. Приехать, например, из Якутии в Новосибирск, чтобы поступать, — очень дорого, тем более непонятно, поступишь или нет. Поэтому раньше многие просто никуда не ехали. Во-вторых, ЕГЭ дает возможность получить независимую оценку знаний.
Но у единого экзамена есть и недостатки. По гуманитарным предметам: истории, литературе, обществознанию — проверки в тестовой форме не достаточно. Кроме того, на экзамене всегда всплывают какие-то мелочи, детали, в том числе незначительные. Раньше при ответе их можно было умно обойти, сейчас — нет: если не знаешь, получаешь минус. Зачастую это нелепо. И обратная ситуация: если раньше ребенка, который не знает, когда отменили крепостное право, отправляли на пересдачу или оставляли на второй год, то сейчас ему просто ставят минус за одно задание.
Еще один неприятный момент — «зарегулированность» ответов. Например, проверка задания «Приведите два аргумента в поддержку и два в опровержение высказывания» ведется «по ключам». То есть правильный ответ заранее определен. Это превращает экзамен в хождение по минному полю: шаг влево, шаг вправо — взрыв и гибель. Творческое начало полностью пропадает. Однако отказаться от проверки по ключам пока невозможно — иначе оценки будут выставляться субъективно и дети окажутся в неравных условиях. А задача ЕГЭ — как раз устранение субъективизма.
Что бы вы изменили в нынешней системе образования?
Главное — я бы убрал безумную бюрократизацию, которая в последние годы одолела школу. Когда отчетность перешла из бумажной формы в электронную, ее объем резко возрос.
Я бы предоставил учителям больше свободы в выборе учебной литературы и методов преподавания. Любая унификация вредна. Плохо, когда учитель становится у доски и работает говорящей головой — и плохо, когда учитель ничего не решает, а тему и цель урока определяют дети. Методику должен выбирать учитель, сообразуясь, во-первых, с темой урока и задачами, которые он ставит при ее изучении, и, во-вторых, с контингентом своего класса.
Можем ли мы что-то перенять у зарубежных коллег?
Я не специалист по зарубежным системам образования, но пару примеров, которые мне кажутся интересными, приведу. Английская система преподавания истории при всех ее минусах (историю изучают непоследовательно: сегодня Елизавету I, завтра египетские пирамиды и т. д.) хороша тем, что учит извлекать информацию из разного рода источников, в том числе иллюстративных. Также мне нравится система экзаменов во многих странах — например, в Канаде. Там это самостоятельная творческая работа, сочинение. Но я думаю, наша школа и учителя к таким экзаменам не готовы.
Сегодня нередко можно услышать разговоры о том, что учебник как жанр устарел и его надо чем-то заменять. Согласны ли вы с этим?
Я человек консервативный и считаю, что учебник нужен. Только он должен носить аналитический характер и обрастать дополнительными материалами: иллюстративными, картографическими, презентациями, аудиоматериалами и т. д.
Сейчас много говорят и о том, что пора переходить на электронные учебники. Недавно Ярослав Иванович Кузьминов сказал, что бумажному учебнику осталось жить пять лет. Я думаю, не пять, а несколько раз по пять. Вообще важно понимать, что имеется в виду под «электронным учебником». Перевести бумажный учебник в формат pdf несложно и недорого — это действительно можно сделать за пару лет. Но это неинтересно. Имеет смысл говорить об электронном учебнике как о некоем сложном комплексе. В нем должно быть несколько этажей, связанных гиперссылками. Первый — повествование, второй — терминологические и библиографические справочники, третий — дополнительные материалы, четвертый — аудио- и видеоматериалы. Но это требует на несколько порядков более серьезных капиталовложений. Думаю, я на своем педагогическом веку таких учебников не увижу.
Поскольку считается, что нынешние школьники ничего не читают и информацию им надо подавать в клиповой мультимедийной форме, переход на электронный учебник, видимо, — необходимая мера.
Я не согласен с такой оценкой школьников. Они читают — но не так, как мы. Не все дети готовы воспринимать большой последовательный текст — он должен быть дробным, в нем должны быть «якоря». Но главное, они читают не то, что мы. Я много раз проявлял наивность и, когда мы изучали Гражданскую войну в США и отмену рабства, ссылался на «Хижину дяди Тома». Но ее читали 3—4 человека из класса. Или в теме «Объединение Италии» пытался опереться на «Овода» — эту книгу вообще никто не читал. Однако если мы начнем выяснять, что читают эти дети, окажется, что круг их чтения очень широк. Например, они читают много фантастики, в том числе социальной.
Какова основная задача изучения истории?
Развивать мозги. Понимать, что ты в мире не первый и не последний — и не один. Видеть логику развития событий, в том числе современных. Я люблю высказывание французского историка Марка Блока: «Кто будет интересоваться только современным, тому не понять современного». С одной стороны, мы задаем прошлому те вопросы, которые нам диктует наше время, с другой — если мы не обращаемся к прошлому, мы и нашего времени не поймем.
Простой пример. Если я буду рассказывать о Великих географических открытиях и о том, как вахтенный матрос Колумба кричал: «Земля», то, кроме интересной байки, тут не будет ничего. Я могу рассказывать о том, как европейцы мучили несчастных туземцев. Это полезно знать, чтобы понимать, что все цивилизации разные и что ты не лучше других только потому, что ты белый. Но если я объясню ребенку, что колоссальный приток золота привел Испанию к упадку (возникло огромное количество золота, оно обесценилось, все подорожало, появился смысл заказывать ремесленные изделия за границей, испанское ремесло пришло в упадок), то, может быть, он будет трезво относиться к призывам накачивать экономику деньгами. Так что одна из задач обучения истории — сделать так, чтобы люди соображали, мыслили, не поддавались манипулированию.
Меняется ли со временем интерес к истории, подход к ее изучению?
Интерес к истории тесно связан с политической ситуацией в стране. Как только она обостряется, интерес возрастает. Когда все успокаивается — затухает. С 2014 года на фоне крымско-украинских событий в школах растет горячечная ура-патриотическая позиция по принципу «мы сейчас всем наваляем». Это ни к чему хорошему не ведет. Хотя умные дети стали в последние годы задавать много вопросов.
Историю сегодня только ленивый не использует в своих интересах, так что предположу, что учителя испытывают на себе определенное давление.
Случаи давления мне известны — в том числе близко от меня. Мне пока везет: ни разу никто не указывал мне, что говорить, а что нет. То, что государство пытается поставить преподавание истории на службу госпропаганде, — очевидно. В первую очередь это касается сюжетов, связанных с ХХ веком, особенно с Великой отечественной войной, с внешней политикой — предвоенной и послевоенной. Появились темы, на которые высказываться небезопасно.
Согласны ли вы с доктриной о том, что одна из задач гуманитарного образования — воспитание патриотизма?
Мне кажется, школьное образование должно заниматься не патриотическим воспитанием, а гражданским. Патриотическое воспитание в школе — это внушение. Но любовь к родине нельзя внушить. Родина может только сама заставить себя полюбить. Человек должен чувствовать, что ему в этой стране хорошо, что она о нем заботится. Если человек тяжело заболел, его отношение к родине во многом будет зависеть от того, как она поведет себя по отношению к нему. Будет ли она обеспечивать его лекарствами или доведет до самоубийства от болевого синдрома. И если она доведет его до самоубийства, то для всех, кто об этом узнает — не только для его родных, — это будет таким страшным ударом, который и 20 уроков патриотического воспитания не перешибут. Любые целенаправленные программы патриотического воспитания менее важны для достижения результата, чем создание, скажем, доступной среды для инвалидов. В развитых странах нет государственных программ патриотического воспитания. А патриотизм есть.
Интересно, кстати, что у нас, когда речь заходит о воспитании патриотизма, все примеры — военные: от Александра Невского до Николая Гастелло. И тут не делается различий между теми, кто родину защищает, и теми, кто чужие земли завоевывает. Патриотическое воспитание превращается в военно-патриотическое. Но патриотизм не должен пониматься исключительно как гордость военными успехами. Такие персонажи, как Николай Иванович Вавилов, Андрей Дмитриевич Сахаров, челюскинцы, купцы Третьяковы, — не вояки, а созидатели — для воспитания патриотизма имеют не меньшее значение. Мне кажется, Луи Пастер в конечном счете для человечества сделал больше, чем Наполеон.
Вы преподаете с 1980 года — и все время в одной школе. Не чувствуете ли вы выгорания?
Чувствую. Выгорание связано с тем, о чем я говорил, — с давлением, с усложнением отчетности, с ощущением, что тебя все время хотят контролировать, что государство не заинтересовано в твоей работе — вернее, заинтересовано только в том, чтобы ты был пропагандистом, с отсутствием перспективы. Это тяжело. В наименьшей степени выгорание связано с детьми. От детей не выгораешь.
Возникает ли у вас желание все бросить и уйти из школы?
Если я все брошу (предположим, у меня появится богатый дядя и мне не придется зарабатывать на жизнь), что я буду делать? Сяду дома? Нет, потому что мне будет скучно: я выпаду из социума, и моим окном в мир станет компьютер, социальные сети. Другое дело, что скоро мне исполнится 60 и, наверное, мне бы хотелось немного снизить нагрузку.
Вы боретесь с выгоранием?
Давно, с 1990-х. Тогда я начал писать учебники и продолжал в нулевых. Потом они перестали издаваться — сменился курс и потребовались другие учебники, менее сложные, «массовые». И я стал готовить подробные лекционные курсы, которыми можно пользоваться в качестве дополнительной литературы. Сейчас я читаю публичные лекции для школьников. Это мобилизация, другой род самореализации в рамках профессии.
Смогли бы вы работать в простой районной школе?
Сейчас уже нет. Я привык к определенному стандарту, уровню восприятия, разговора. Перестраиваться на два порядка ниже мне будет тяжело. Учительница математики, которая много лет проработала в районной школе, скорее всего, не сможет преподавать в элитном матклассе. У нее не тот уровень знаний. А математики, которые привыкли к элитному матклассу, растеряются в обычной школе. И я растеряюсь. Да, я веду уроки в биологических и физико-химических классах, в которых далеко не все интересуются историей, но у всех — довольно высокий уровень общего развития. Работать в школе, куда многие дети приходят на передержку, я не готов. Хотя я прекрасно понимаю, что учителям, которые там работают, приходится гораздо тяжелее, чем мне.