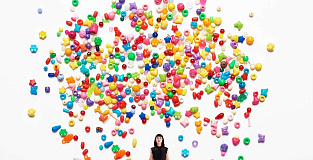читайте также
Поведение человека, в том числе экономическое, зависит от его системы ценностей, которая, в свою очередь, во многом определяется этнической или культурной принадлежностью. О том, что стоит за этими понятиями и в чем заключается своеобразие русской нации, рассказывает этнопсихолог, доктор психологических наук, профессор, заведующая международной научно-учебной лабораторией социокультурных исследований НИУ ВШЭ Надежда Михайловна Лебедева.
Что изучает этнопсихология?
Этнопсихология — российский термин, во всем мире эта наука называется «культурная, или кросс-культурная психология». Россия — полиэтническая страна, здесь более ста этносов, поэтому культурные различия, которые мы веками наблюдали у наших соседей, традиционно связываются именно с этнической принадлежностью. Между тем понятие «культура» шире, чем «этнос», — оно включает в себя и язык, и религию, и способы поведения в быту, и многое другое. В самом общем виде эта наука изучает психологию людей, принадлежащих к разным этническим и культурным группам, — в чем ее сходство, различия, чем объясняются эти различия и стираются ли они со временем.
Какими ключевыми понятиями оперирует этнопсихология?
Одно из ключевых понятий — этническая идентичность, или ощущение самого себя членом определенной этнической группы. Этническая идентичность бывает позитивной и негативной. Человеку свойственно положительно оценивать группу, к которой он себя относит: даже если наш народ неправ, мы стараемся его оправдать — это важно для нашего самоуважения. Но когда личные ценности расходятся с ценностями большинства или нам не нравится, что делает правительство, наша идентичность может стать негативной. Нам грустно и стыдно за то, что мы принадлежим к этому народу. Из такой ситуации люди выходят по-разному. Многие решаются на эмиграцию, стремясь сменить групповую идентичность, хотя ее, как и родителей, «отменить» по большому счету нельзя.
Этнопсихология также изучает, до какой степени мы различаем характерные черты представителей разных этнических групп. Речь идет в том числе и об этнических стереотипах, которые тоже могут быть позитивными и негативными. На тренингах по этнической компетентности и толерантности мы часто показываем людям список характеристик и просим отгадать, какую нацию они описывают. Допустим, галантными, легкими, очаровательными, болтливыми все считают французов, а любовь выпить и широту души приписывают русским. Этнический стереотип — это упрощенный, схематизированный образ, но в нем всегда содержится «зерно истины», которое безошибочно угадывается. Его не затрагивают даже процессы глобализации, которой ученые раньше приписывали способность нивелировать этнические и культурные различия. Глобализация воздействует только на то, что лежит на поверхности: молодежь во всем мире слушает одну и ту же музыку, носит одинаковую одежду, говорит на сходном сленге, пользуется одинаковыми гаджетами. Но если вы копнете глубже, окажется, что молодой японец значительно отличается от молодого американца или русского. Коренные особенности этнической культуры, которые столетиями формируются под воздействием исторических событий, религии, ландшафта и т.д., достаточно живучи. И самое интересное, что люди стараются их сохранять.
Для чего?
Мы все хотим выглядеть особенными, не похожими на других, потому что это привлекает к нам внимание, повышает нашу самооценку и оценку в глазах других. Кроме того, это дает нам ощущение самостоятельности, самобытности, независимости.
Какие изменения в последнее время претерпевала наша этническая идентичность?
После распада СССР и слома привычного социально-политического устройства у многих русских, оставшихся в России, появились негативные компоненты этнической идентичности: ощущение униженности, бессилия, потери уважения со стороны остального мира. Людям свойственно связывать влияние страны на международной арене с реальным весом и могуществом нации. Поэтому страх перед СССР часто считался признаком уважения — люди не понимали, что это был страх перед непредсказуемым поведением страны, обладающей ядерным оружием. И все же в истории Советского Союза были несомненные успехи, за которые нас действительно уважали — это и победа во Второй мировой войне, и освоение космоса. Многим россиянам стало казаться, что с распадом советской империи пропало уважение к России, хотя это совсем не так.
Утрата позитивной этнической идентичности приводит к потере ориентиров, к непониманию, как дальше жить, что делать. У нас этому способствовал еще и крах идеологии. Мы были одним из самых идеологизированных государств: за нас решали, во что нам верить, что любить, что ценить, куда идти. Во всех обществах, где личность подавляется группой (мы всегда были склонны к коллективизму, и тоталитарная система это только усугубила), у людей атрофируется ощущение самоуважения, самостоятельности, ответственности за свои решения, способность выстраивать свою жизнь. Когда строй рухнул, люди оказались выброшенными в жестокий мир и остались без подпорок. Поэтому даже сейчас, несмотря на приличный уровень дохода, уровень удовлетворенности жизнью у русских один из самых низких в мире.
Сегодня в жизнь входит новое поколение, которое меньше ориентируется на идеологемы и понимает ценность свободы, и это вселяет большую надежду. Но что меня тревожит в последнее время, так это сильная тенденция к эмиграции у молодого образованного слоя. Люди уезжают в поисках человеческого достоинства и самореализации — они не хотят чувствовать себя униженными и незащищенными, хотят развиваться как специалисты мирового уровня. И это знак того, что Россия в стагнации.
Каковы основные ценности русского народа?
В последнее время они немного изменились. Раньше я бы назвала терпимость, доброжелательность, стремление помочь, жертвенность во имя тех, кого любишь. Это все в определенной степени осталось, но пришло и другое. Люди стали ценить самопродвижение, успех, деньги, власть, статус, потому что в нашей культуре это все дает защиту. Но надо понимать, что нам важны не деньги сами по себе, а безопасность и возможности, которые они дают. Еще одну особенность я все больше замечаю за русскими. Мы вынесли из Советского Союза ощущение сирот-детдомовцев, брошенных и обиженных, поэтому везде, где можно надавить и выбить себе какие-то преференции, мы это делаем. Из-за этого за рубежом о русских нередко складывается негативное мнение как о людях невоспитанных, грубых, эгоистичных.
Какие факторы влияют на формирование ценностей того или иного народа?
В основном это экология и история: местность, в которой проживали древние люди, и род занятий, с помощью которых они поддерживали свою жизнь. Считается, что охотничьи племена радикально отличаются от земледельческих по своей психологии. Земледелие — кооперативный труд, люди работают вместе на поле, они должны слушать друг друга, наступать на горло своему самолюбию. Так формируются конформность, уживчивость, жертвенность, помогающее поведение, то есть тот самый коллективизм. Охотник чаще всего — это одиночка, который полагается только на себя: он должен выследить зверя, победить его в схватке один на один. Ему свойственны независимость, смелость, умение самостоятельно принимать решения. Это совершенно другой тип личности. Сообщества охотников и сообщества земледельцев постепенно формируют разный генофонд: «рохли» изгоняются из племени охотников, а неуживчивые — из племени земледельцев, и в результате племя становится генетически «заточенным» под тот или иной род деятельности.
Роль экологии можно проиллюстрировать интересным примером. В Центральной Африке есть два племени — в их состав входит один и тот же народ, с общим языком и культурой. Одно племя живет в местах обитания мухи цеце, а другое — нет. Муха цеце поражает крупный рогатый скот, поэтому в одном из племен его не держат и маленьких детей не могут поить коровьим молоком. Из-за этого племя вырабатывает ритуал кормления детей грудью до трех лет. Чтобы молоко у женщины не пропало, племя вырабатывает табу на отношения с мужем. Чтобы род не прервался, вырабатывается многоженство: муж берет новую жену, а первая с ребенком отселяется в соседнюю хижину. У мальчиков, которые живут только с матерью, формируется поведение по женскому типу. А племя-то охотничье! Поэтому в какой-то момент подросшая мужская поросль отправляется со взрослыми в саванну, где проходит жесткий обряд инициации: три месяца мальчиков учат охотиться. А в племени, где нет мухи цеце и детей кормят коровьим молоком, семьи моногамные и мальчики все время находятся с отцом и рано осваивают навыки охотника.
Свой вклад в формирование ценностей вносит и история — в основном войны. При этом очень важно, победителем или побежденным страна выходит из войны. Оказывается, поражение учит лучше, чем победа. Мы видим, что Германия и Япония, проиграв во Второй мировой войне, пересмотрели свои ценности. Немцы очистились покаянием, а японцы сменили концепцию воина-самурая как ключевой архетипической фигуры на концепцию сильного экономического соперника: всю свою воинскую доблесть они перенесли в экономику. Победа же не заставляет людей меняться.
А как и в каком возрасте формируются ценности индивидуума?
Считается, что ценности определяются в возрасте 20—30 лет. Закладываются они с младенчества, когда ребенок подражает взрослым, но в это время все происходит неосознанно. Потом, когда человек становится самостоятельным, из его внутренних конфликтов рождается выбор, ценности определяются и закрепляются навсегда. Те, чья молодость пришлась, скажем, на 1960-е, нередко хиппуют до старости, поэтому бабушка может оказаться более разухабистой, чем внучка. После 30 лет изменить ценности очень сложно. Даже если люди меняют свое поведение, приспосабливаются к окружающей реальности, делают все так, как теперь принято, это может противоречить их взглядам на жизнь.
Конечно, есть люди, которые не придерживаются жестких догм и правил, и гибко, терпимо и мудро относятся ко всем системам ценностей. Но это заслуга отдельной личности, которая продолжает развиваться и впитывать все новое. У нас таких людей мало, наше общество очень интолерантное и ксенофобское. Мы нетерпимы ко всему «иному»: к мигрантам, бомжам, инвалидам, больным детям, социально неуспешным людям; мы одна из немногих стран, где есть ненависть к геям.
Чем это объясняется?
Мы вышли из очень ригористской системы. И даже если мы в чем-то меняемся, мы продолжаем считать, что наши взгляды самые верные. Это наследие советских времен. До этого к людям относились совершенно по-другому. Тем не менее, я считаю, что мы можем вернуться к прежнему отношению и этот возврат уже происходит — взять ту же благотворительность, которая становится все более популярной. Особенно показательна для нас тайная благотворительность, которая лучше всего сочетается с ценностями христианства.
Под воздействием каких факторов происходит этот возврат?
Это естественный и очень очеловечивающий процесс: стремление помогать слабым заложено в нашу природу. Помогая обездоленным, тем, кому хуже, мы начинаем больше ценить то, что имеем, и перестаем считать себя исключительными и избранными.
Можно ли в обобщенном виде обрисовать характер русского народа?
У нас крайне противоречивый характер. С одной стороны, мы очень терпеливые, умеем мобилизоваться и выживать в трудных условиях. Мы много столетий живем плохо, бедно и беспокойно. Мы к этому привыкли и поэтому в бедности и лишениях чувствуем себя комфортно: не жили богато, нечего и начинать. Героизм наш проявляется только в трудные моменты — и тогда мы себе очень нравимся. Поэтому часто мы сами себе создаем или придумываем трудности. С другой стороны, нам свойственны неудержимая тяга к гедонизму, легкомыслие, стремление перепробовать все и сразу, рискованность, разудалость — нам тесно в каких-то рамках. Типично русская идея — вместо того чтобы кропотливо трудиться, лучше совершить одномоментный подвиг и потом либо умереть, либо сидеть и наслаждаться плодами своего геройства.
Мы очень легковерные, но в то же время большие консерваторы, нас трудно убедить сделать что-то новое. Отчасти это даже неплохо, это дает нам защиту. Мой отец, прошедший ГУЛАГ, усвоил там одну науку: когда бригадир что-то тебе приказывает, не стоит тут же выполнять приказ. Только на пятый раз, когда он будет кричать на тебя матом, нужно подчиниться: всегда есть надежда, что к пятому разу он передумает. В ГУЛАГе те, кто сразу все выполнял, быстро «сходили на нет». Надежда на авось, на Бога, на то, что все рассосется, вкупе с рискованностью и безрассудной храбростью нередко позволяет нам пройти по острию ножа и выбраться из самой безвыходной ситуации.
Еще одна наша особенность — очень узкий горизонт планирования. Опросив русских и китайских студентов, мы выяснили, что наши люди планируют жизнь максимум на пять лет вперед, а китайцы — на 25—30. Дальневосточные культуры: Китай, Корея, Япония — имеют долговременную ориентацию и видят жизнь в ее целостности и непрерывности. У нас же все происходит скачками: пришел новый правитель, отменил все, что было раньше, началась новая эпоха. Кроме того, у нас очень много уходит «в свисток», в эмоции. Но этим русские и интересны, это наш неоценимый вклад в мировую культуру: эмоциональный человек должен вылить свои эмоции в созидание: живопись, танец, литературу, иначе он разрушится.
Если русские, как вы сказали, — консерваторы, не готовые делать ничего нового, значит ли это, что мы не способны к инновационной деятельности?
На креативность и отношение к инновациям влияют, как правило, две ценности. Это самостоятельность мысли и действия и так называемая стимуляция, то есть потребность в риске, новизне, переменах. Ценность стимуляции у русских очень велика. Мы часто и пьем-то из-за этого. Мы любим путешествия, авантюры, экстремальные виды спорта, быструю езду. В этом смысле наш психологический строй хорош для инноваций. А вот самостоятельность у нас всегда была задавлена: в тоталитарной коллективистской культуре умение самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность никогда не ценилось. Поэтому наши инновации очень часто без царя в голове. «А давай-ка я блоху подкую» — ценность нулевая, зато интересно! Мы стремимся к чему-то новому и оригинальному, но не умеем все тщательно продумывать, просчитывать риски, настойчиво идти до конца, невзирая на сопротивление внешнего мира. В итоге мы легко «покупаемся» на инновации сверху, если они созвучны нашей природе. Нам скажут: «С завтрашнего дня развиваем инновационную экономику», — и мы побежим впереди планеты всей. Вскоре, правда, поймем, что для этого нужны знания, умения, которых у нас нет, и тогда, если начальство продолжит давить, будем имитировать инновации.
То есть, чтобы делать ставку на инновации, нам надо развивать самостоятельность?
Да, и одновременно — образование, профессионализм, нонконформизм. Начальники должны научиться ценить профессиональные, а не личные качества сотрудников, и привечать тех, кто их критикует, потому что именно такие люди меняют систему к лучшему. У нас же инакомыслящих обычно прижимают к ногтю.
А как русские относятся к труду? Если судить по поговоркам (например, «работа — не волк, в лес не убежит»), мы и работать-то не очень любим. Лучше 33 года лежать на печи, чем трудиться и созидать.
Исторически в русской культуре работе отводилось подчиненное положение по сравнению со спасением души и молитвой. Труд физический — ради куска хлеба; труд молитвенный — ради спасения. Наш народ всегда был религиозен, поэтому считалось: работа — это нечто вторичное. Религия в любой культуре во многом определяет отношение человека к труду. Как известно, наиболее экономически успешными были протестанты — они верили: если человек усердно трудится и богатеет, Бог его замечает и прощает. Православие значительно отличается от протестантизма: сказывается влияние восточной культуры и опыт деспотий, лишающих человека свободы. У нас люди очень долго были в рабстве, поэтому и религия не винит человека за бедность. При этом, хотя труд в православии не ставится во главу угла, крепких хозяев всегда уважали, если они подавали милостыню и были благочестивы. От человека, экономически вставшего на ноги, ожидали, что он будет помогать другим: содержать церкви, участвовать в благотворительности. Ведь он — не хозяин денег, они даны ему свыше для того, чтобы он тратил их на пользу общества.
Что касается поговорки «работа не волк...», то она, скорее, о подневольном труде; она отражает психологию тех, кто работает на других или на государство и чье вознаграждение не зависит от результатов труда. Так было, например, в советское время, когда и без того не самое трепетное отношение к труду исказилось до такой степени, что в Прибалтике даже появился термин «русская работа» — с негативным значением, конечно. В этой связи интересен феномен «социальной лености», открытый американскими психологами. Оказывается, в одиночку человек трудится усерднее, чем в группе, особенно когда вознаграждение распределяется поровну. Если он паразитирует, то на единицу потраченных усилий получает большее вознаграждение. Это — негативный эффект коллективного труда по принуждению.
Какая мотивация действует на русского человека? Что может заставить нас трудиться?
Существует универсальная мотивация — внутренняя: любовь к своему делу или помощь другим — больным, бедным, государству (у человека есть потребность делать что-то для других, что-то общественно-полезное). Она действует на всех, в том числе на русских. Есть у нас и свои особенности.
В последнее время мы ударились в потребительство и вещизм. Поэтому для многих очень важна высокая зарплата, позволяющая покупать статусные вещи. Не стоит забывать, что наша культура — «отношенческая». Мы обращаем большое внимание на отношения в коллективе — с коллегами, с начальством, с подчиненными. Несмотря на свой северный бэкграунд, мы очень эмоциональные. Исследования, в ходе которых мы изучали офисную культуру Великобритании, Китая, России, Саудовской Аравии, показали, что для нас важна личность босса: если он нам нравится, это нас вдохновляет и мотивирует, если нет — мы работаем спустя рукава. В этом плане мы близки к китайской культуре, хотя мы и не так почтительны и предупредительны к вышестоящим. Мы также изучали, насколько люди в разных странах включены в личную жизнь руководителя. Мы — нет, как и англичане. В остальных культурах начальникам принято помогать — там отношения между руководителями и подчиненными носят личностный характер. В целом, мы по множеству показателей ближе всего подходим, как ни странно, к Великобритании. Мы достаточно европейская нация, хотя и считаем себя «Азиопой».
И все-таки в нас должно быть что-то азиатское.
Да, например, глуповато-крестьянское, часто во вред себе хитрованство: мы все время хотим что-то выгадать, обмануть кого-то. Еще — иерархичность. Мы стараемся угождать своему патрону, надеясь, что и он нас отметит и простит нам наши слабости: «ты мне — я тебе». И еще — неумение отделять рабочее от личного. В офисе люди могут часами болтать по телефону, что неприемлемо в западных культурах. Хотя последняя особенность может быть и наследием советского периода.
Если ценности влияют на наше восприятие мира, не стоит ли их подкорректировать?
Это невозможно. Ценности любой культуры меняются естественным путем, и всегда в одном направлении. Во-первых — от выживания к самовыражению: постепенно человек перестает заботиться о куске хлеба и начинает творчески самовыражаться. Американский социолог Рональд Инглхарт утверждает, что, как только в стране одно поколение вырастает в условиях гарантированной безопасности, люди начинаются стремиться к демократии, а демократия в свою очередь приводит к расцвету самовыражения. После распада СССР из-за экономических трудностей ценности россиян «повернули» в сторону выживания. Сейчас, с наступлением относительной стабильности, мы снова двинулись вперед, и сегодняшние массовые протесты — свидетельство межпоколенной смены ценностей. Во-вторых, ценности эволюционируют от традиционалистских к секулярно-рациональным. То есть на одном полюсе — религия и жесткие гендерные нормы, а на другом — отказ от влияния религии на общественную жизнь и рационализация норм. В советское время мы двигались в сторону секуляризации, сегодня — наблюдается возвращение к традиционализму. Но это лишь вопрос времени: ценности в конечном итоге всегда развиваются в одном направлении. Россия — не исключение.