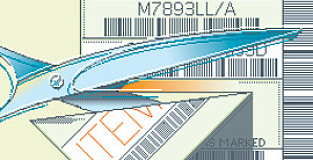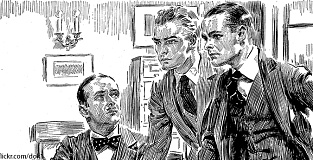читайте также
В 1971 году киностудия «Киевнаучфильм» выпустила фильм «Я и другие», в основу которого легли эксперименты, демонстрирующие закономерности конформного поведения человека в социуме. Автор большинства этих экспериментов, доктор психологических наук, академик РАО, профессор, заведующая кафедрой психологии развития МПГУ Валерия Сергеевна Мухина объясняет, что общего у конформизма и нонконформиза и почему самостоятельность — удел избранных.
Что такое конформизм?
Понятие «конформизм» происходит от позднелатинского «conformis» — подобный, сходный. В Европе его начали использовать в средние века для обозначения сообщества, сформировавшегося вокруг англиканской церкви и принимающего все ее догматы. В ХХ веке в связи с изменением системы социального взаимодействия это слово приобрело новый смысл. Обществу понадобился термин, означающий «следование за мнением других». И он появился. Строго говоря, его ввели европейцы, перед которыми встала проблема влияния на людей — с одной стороны, и изучения той категории лиц, которые легко поддаются чужому воздействию, — с другой. В это же время возникло и понятие «конформность» для обозначения качества личности, проявляющей конформизм. Эти понятия распространялись по миру не очень быстро. В 1960-е годы у нас был друг семьи — известный японист Ирина Львовна Иоффе. Она рассказывала, что японские литераторы, глядя на то, как мы живем, сказали ей: «Вы, советские люди, — настоящие конформисты». Ирина Львовна, женщина очень образованная, не поняла, о чем речь. «Вот видите, — ответили ей японцы, — вы даже слова такого не знаете».
Как ученые исследуют конформизм? Можете привести примеры известных экспериментов?
Одними из первых конформность начал исследовать турецкий психолог Шериф Музафер. В 1935 году он провел эксперимент с использованием автокинетического эффекта, то есть иллюзии движения. Он просил испытуемых отмечать моменты начала и окончания движения световых точек и определять расстояние, на которое они якобы переместились. В одной группе Шериф Музафер проводил эксперимент сначала с участием всех испытуемых, а потом индивидуально, а в другой — наоборот. В результате оказалось, что групповое обсуждение влияет на индивидуальные показания. Пожалуй, самые известные эксперименты по изучению конформности принадлежат американскому психологу Соломону Ашу. В 1950-е годы он провел эксперимент с разновеликими отрезками. Он показывал восьмерым молодым людям (семеро из них были «сообщниками» Соломона Аша, то есть членами подставной группы, и лишь один — испытуемым) четыре линии и просил указать одинаковые по длине. «Подсадные утки» систематически давали неверные ответы, и испытуемый всегда шел у них на поводу.
В эксперименте Соломона Аша было семь «подсадных уток». Это случайное число?
Нет. В результате множества социально-психологических исследований было установлено, что самое сильное влияние на человека оказывает группа именно из семи членов. Антон Семенович Макаренко писал в своих работах о том, что семь имеет особую силу воздействия. Это верно для взрослых. А когда дело касается детей, семь— уже много. Мы в своих экспериментах с детьми уменьшали подставную группу до четырех человек.
Каковы мотивы конформного поведения?
Конформизм может быть социальной реакцией, а может — свойством личности. Истинные конформисты всегда готовы следовать за другими. Это опасные люди, ими легко манипулировать, они поддаются каждому последующему воздействию, у них нет внутреннего стержня, нет своей позиции. Конформистов в чистом виде не так много. В то же время конформизм может быть формой продуманной социальной адаптации. Люди часто поступают конформно, если это им выгодно. Кроме того, исследователи зафиксировали резкое повышение конформности в нестабильные исторические периоды. В ситуации неопределенности, когда люди не знают, как себя вести, они невольно соглашаются с другими.
И все же, можно ли сказать, что конформизм в большей степени присущ представителям тех или иных государств?
Есть страны, система которых ждет от человека конформных реакций. Системам Сталина, Мао, Гитлера конформизм был на руку. И люди проявляли конформизм. Как я уже сказала, человек порой демонстрирует конформную реакцию из рациональных побуждений. Наша психика сложнее, чем условия, к которым нас пытаются подстроить. Очень интересные исследования проводил американский психолог (кстати, выходец из России) Ури Бронфонбренер. Изучая ценности североамериканских и латиноамериканских детей, он выяснил, что для американцев важна социальная агрессивность, а для латиноамерикацев — конформизм, следование друг за другом. Он обратил внимание: если поставить к доске трех учеников-латиноамериканцев и попросить первого, кто решит математическую задачу, повернуться лицом к классу, никто не повернется. Все будут ждать друг друга, потому что в Латинской Америке быть первым неприлично. А в США — наоборот, там идет постоянная конкуренция. Но это внешний культурный фактор поведения, форма адаптации к социальным условиям, к социальным ожиданиям — и больше ничего. В реальности же в любой системе обязательно есть лидеры, есть конформисты и негативисты.
Если человек — существо социальное, как проявляется его индивидуальность?
В каждом человеке есть два начала: социальное (я принадлежу обществу, оно меня взращивает) и уникальное. Уникальные проявления нужны нам лишь в отдельных случаях: при решении сложных проблем и в творчестве (научном, литературном, художественном и т.д.) — то есть когда мы тем или иным способом выражаем свое видение мира, пропуская через себя Великое идеополе общественного сознания (все сложившиеся в истории человечества образы и идеи, которые влияют на самосознание каждого отдельного человека в зависимости от уровня его образования и внутренней позиции).
Однако чаще всего мы ведем себя как социальные единицы — это стереотипы, навыки взаимодействия с другими. Мы выходим на улицу и (если нормативность нами усвоена) не толкаемся, не хулиганим, уступаем место пожилым. Мы не проявляем свою личностную позицию до тех пор, пока не попадаем в проблемную ситуацию. Социальное начало в нас сильно, потому что любая система делает из человека социальную единицу. Это нормально. Другое дело, что людей нельзя ломать, превращать в винтики. Конечно, есть люди, у которых одно из этих двух начал развито сильнее. Например, у Бродского был конфликт с собой и с обществом. Он отразил этот конфликт в своем рефлексивном эссе «Меньше единицы». Любопытно, что он сам нашел этот образ и использовал слово, прижившееся в философии и науках о человеке, — «единица».
Если говорить о конформизме как о свойстве личности, то как оно формируется? Или это нечто врожденное?
Никто не знает, исследовать это очень сложно. Может быть, дело в слабом типе нервной системы: сензитивные, то есть чувствительные к внешнему воздействию люди могут поддаваться влиянию окружающих. А если эта слабость сопряжена с отсутствием культуры, системного отношения к миру, если человек не занимается саморазвитием и самоформированием, то дело совсем плохо. Хотя, замечу, сензитивность — тоже великий дар. Художники чувствительны к миру, и благодаря этому свойству они могут реализовать свои способности.
Теперь давайте обратимся к противоположному явлению — нонкорформизму.
В психологии чаще используется термин «негативизм». Только в одном психологическом словаре — А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского — есть понятие «нонконформизм». Так вот негативизм — это протестное поведение, которое проявляется как реакция на общественное мнение. У него много общего с конформизмом: и то и другое — зависимость от общества. Только конформисты соглашаются и говорят «да», а негативисты возражают и говорят «нет». И теми и другими можно манипулировать. Если мы хотим чего-то добиться от негативиста, мы просим его об обратном. Почему-то некоторые видят в нонконформизме некую социальную ценность.
Так при советской власти все протестные проявления людей расценивались как свидетельство силы и самостоятельности личности. Однако нонконформизм — это демонстративный негативизм, а не самостоятельное выражение своей социальной позиции. Да, в Советском Союзе определенную категорию людей называли нонконформистами. Конечно, они могли быть борцами. Но это были по большей части тщеславные борцы. И их протест я бы не назвала высшим достижением социального поведения.
А что высшее достижение?
Высшее достижение — это самостоятельность. Это Андрей Дмитриевич Сахаров, Александр Исаевич Солженицын — они понимали, что и зачем делают, и объясняли это людям. Они выступали прежде всего за интересы человечества. Самостоятельность — это личностное свойство. Только самостоятельного человека можно назвать личностью.
Самостоятельность — это целостное представление о своем месте в мире, о своем пути, о том, как «делать» себя, как выстраивать отношения с близкими, с Родиной, с миром. Чтобы реализовать свои представления, нужна воля. Человеку часто приходится противостоять мнению других. Людей, демонстрирующих целостность сознания и воли, во все времена было не так много. Хочу назвать блистательного русского политического деятеля Василия Витальевича Шульгина (1878—1976), который достойно соответствовал в истории Государства российского своему месту и своему времени, верно служа Родине и честно признавая свои заблуждения. На съемках фильма «Я и другие» проводились эксперименты со студентами. И реакции большинства (вопреки надеждам нашего научного консультанта Артура Владимировича Петровского, который хотел показать, что советская молодежь, в отличие от американской, самостоятельна) были конформными.
Но были и те, кто не шел на поводу у группы. Так вот студентов, которые проявляли самостоятельность, я спрашивала, что они чувствовали, не соглашаясь с большинством. И они отвечали, что очень волновались. Один здоровый парень, мастер спорта, сказал: «У меня такое ощущение, что некий стержень дрожит во мне. Так мне было трудно». То есть когда группа давит, а ты идешь своим путем, ты несешь большие энергетические потери. Проще проявить конформизм: ты со всеми, тебя никто не казнит, не милует, все в порядке. Самостоятельность дорогого стоит.
На самостоятельного человека нельзя воздействовать? Это настолько сильная личность, что его реакция никогда не будет конформной?
Самостоятельная личность может давать и конформные, и негативные реакции. Любого человека можно «подставить». Когда мы проводили эксперименты для фильма, мы специально обрабатывали людей. Мы приводили их в уютную комнату, где были кофе, конфеты, шоколад. Испытуемый входил туда вместе с подставными участниками — входил не последним, а третьим или четвертым. К нему все хорошо относились, показывали ему свое расположение, шутили, смеялись над его шутками. Все его поддерживали, и он чувствовал себя среди своих. И в такой компании в ситуации эксперимента он чаще всего вставал на ту же позицию, что и члены подставной группы. Скажем, про фотографии разных людей, мужчин и женщин, говорил вслед за другими, что это портрет одного и того же человека. А если перед экспериментом все были нервные, злые, то на самом эксперименте дополнительное напряжение создавала съемочная команда, испытуемый давал негативные реакции. Например, про портреты одного и того же человека, говорил, что это разные люди.
Лично я, когда речь идет о серьезных, принципиальных для меня вещах, связанных с моим представлением о мире, внутренне готовлюсь, мобилизую свою энергию, чтобы, если понадобится, дать отпор тем, кто намерен мною манипулировать. К этому надо быть готовым эмоционально и физически. Человека можно сломать, если, например, он устал — ведь все мы к концу дня истощаемся. Кроме того, чтобы противостоять манипуляции и не сломаться, нужна воля и эмоциональная культура — способность регулировать собственные эмоции. В этом смысле себя надо воспитывать. Вообще социальные отношения — это ловушки. Есть люди, которые профессионально расставляют эти ловушки, которые умеют руководить массами, манипулировать ими. Когда вышел фильм «Я и другие», меня приглашали в учреждение, где обучались будущие политические лидеры африканских, азиатских и других дружественных СССР стран. Я успела прочитать там несколько лекций, когда наконец поняла, что на этом фильме учат манипулировать людьми. И я прекратила свои визиты. Ведь цель нашего фильма была показать людям, что они могут невольно пойти на поводу у других.
Нуждается ли общество в самостоятельных людях?
Да, конечно. Однако людей самостоятельных, которые умеют думать, стремятся развивать свою душу, тех, для кого на первом плане личностное развитие, всегда меньше. И это нормально. Как всякому биологическому виду нам не нужна избыточная самостоятельность. Обществу это не нужно. Человечеству надо воспроизводить себя. Какими бы социальными, интеллектуальными и духовными мы ни были, необходимость воспроизводства подчас сильнее нас. Это ключевой момент жизни. Здесь возможно провести аналогию с животным миром. Великий Чарльз Дарвин писал, что среди животных есть лидеры (вожаки), они более интеллектуальны, чем остальные. Вожаков всегда меньше. В стереотипных ситуациях, когда действует описанная Иваном Петровичем Павловым схема поведения по модели «стимул-реакция», стадо действует в соответствии с инстинктом: добывает пищу, производит на свет потомство, пребывает в покое. Когда случаются природные и другие катаклизмы, вожаки вынуждены «соображать» за всех, решать возникшие проблемы. Каждый вид нуждается в интеллектуальном лидере, который может проявить себя в экстремальной ситуации. Вожак в животном царстве — прообраз самостоятельного лидера в человеческом сообществе.
А как эти интеллектуальные вожаки ведут себя в спокойное время?
Есть гениальный эксперимент с крысами. В вольер с высокими железобетонными стенами посадили крыс (из грызунов они самые интеллектуальные создания). Дали им ветошь, бумагу, солому, ветки — они начали строить гнезда. Поставили качели — они начали качаться. Дали еды… А посередине вольера — глубокий колодец с водой. Так вот четыре крысы — три мальчика и одна девочка — освоив пространство, начали изучать колодец и в конце концов попадали в него. Сработал павловский рефлекс «Что такое?».
Сейчас у нас в стране, да и вообще в мире, непростая ситуация. Как раз такая, при которой у общества должна повышаться конформность. Значит, именно сейчас нам нужны самостоятельные личности. Поэтому вопрос: можно ли как-то воспитать, развить в людях самостоятельность?
Самостоятельность воспитать в людях в известной мере возможно. Однако это нерационально с точки зрения реальных потребностей социума. Изобилие самостоятельных персон не нужно обществу.
Развитие человека определяется тремя факторами. Первый — это генотип (то, что досталось нам от предков: тип нервной системы, особенности строения органов чувств и т.д.) Второй — социальные условия: то, как человека воспитывали. Бихевиористы, которые позаимствовали у Ивана Петровича Павлова схему «стимул-реакция», говорили: дайте нам двенадцать детей, и из одного мы сделаем врача, из другого — педагога, из третьего — преступника и т.д. Третий фактор — внутренняя позиция самого человека. Эта позиция формируется не у каждого. Она может сложиться у тех, у кого есть некая система ценностей, кто готов работать над собой. Внутренняя позиция для своего формирования требует колоссальных усилий. Кроме того, воспитать можно только тех, кто имеет к этому мотивацию и сам ищет себе учителя.
В целом же, общество (в том числе и лидеры) не заинтересовано в большом числе лиц, претендующих на самостоятельность.