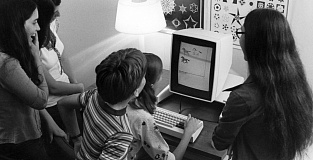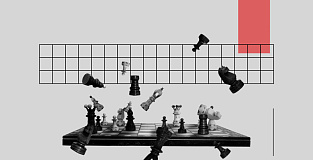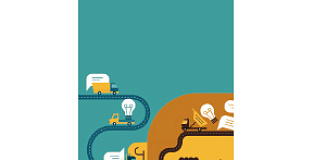читайте также
В прошлом номере «HBR—Россия» была опубликована статья «Курс на развитие инноваций». Ее автор Томас Настас разработал свой план развития индустрии инноваций в России. Он предлагает для начала вырастить много инновационных предприятий, нацеленных на рынки своей страны, и только потом выводить их на глобальную арену, а не пытаться сразу завоевать мир. Что думают на этот счет опытные венчурные инвесторы?
Сергей Парменов, портфельный управляющий хедж-фонда Traxis Partners (Нью-Йорк)
МНЕ КАЖЕТСЯ наивной идея о том, что венчурный капитал простимулирует подъем России в глобальной технологической иерархии. В истории нет прецедентов, когда высокотехнологичные отрасли стали бы конкурентоспособными без государственной поддержки. Главная причина — огромные инвестиции и неясная доходность. Кремниевая долина обязана своим рождением государственным исследованиям для военных целей, а интернет был изобретен военными и поначалу использовался только ими да университетами. Венчурный капитал всегда лишь способствовал развитию и коммерциализации уже существующих технологий. А в России сейчас просто нет технологической базы, которая могла бы обеспечить поле деятельности венчурному инвестору. Ее-то и нужно создать в первую очередь. Нецелесообразно концентрироваться только на внутреннем рынке в надежде создать передовые технологии. Да, конкуренция здесь ниже, но его небольшой размер будет сдерживать рост компании. А это неминуемо скажется на прибыли. Подтверждений тому масса. Скажем, доходность американских венчурных инвестиций выше, чем в Европе, — в основном из-за того, что сами европейские рынки меньше. Другой пример — Сингапур, Тайвань, Корея и Израиль, которые добились успеха, потому что ориентировались на экспорт.
Думаю, многомиллиардные инвестиции, которые так нужны России для создания технологической базы, должно дать государство. Важную роль могут сыграть и прямые инвестиции глобальных технологических лидеров в местную исследовательскую деятельность.
Конечно, инвесторы, занимающиеся прямыми инвестициями, могут успешно вкладывать в российские компании, нацеленные на внутренний рынок. Но из-за его ограниченного размера и отсутствия технологической базы появление глобально конкурентоспособных технологий маловероятно. Лучше не строить иллюзий, что венчурные инвестиции приведут страну в клуб мировых технологических держав.
Андрей Арофикин, управляющий директор Merrill Lynch CIS Limited
МНОГОЕ ИЗ ТОГО, О ЧЕМ ПИШЕТ АВТОР, уже опробовано в Китае и Индии и давно с успехом используется в развитых странах. Томас Настас предлагает начать создание индустрии инноваций с внутреннего рынка, и, боюсь, тут он прав. Почему «боюсь»? Здесь и кроется главная проблема, с которой план Нас-таса обречен столкнуться, — коррупция. Я, честно говоря, не знаю, как бороться с откатами и взятками, которыми сопровождается выделение ресурсов и заказ пользователями технологических разработок (по определению не имеющих конкурентов). Этой болезнью у нас заражены даже конкурентные рынки. Да и не факт, что в коррупционной среде удастся создать истинно инновационные продукты: бывали случаи, что гранты давали «переупакованным» разработкам 20—30-летней давности, а деньги «распиливали».
Есть еще одна проблема. Очень немногие российские предприятия интересуются отечественными технологиями. Это значит, что компании-пользователей придется субсидировать или мотивировать какими-то неформальными методами, чтобы они приняли наши инновации. Что будет непросто: бизнес вооружен западными технологиями и в будущем тоже собирается ориентироваться на них.
И все же план, предложенный Настасом, — единственно возможный, если мы вообще всерьез говорим о создании индустрии инноваций. Другого способа заставить кого-то за границей принять российскую технологию просто не существует. У меня есть опыт инвестиций в технологические компании, так что я имел возможность убедиться в сказанном на собственном опыте.
Пьер-Брюно Рюффини, доктор экономики, советник по науке, технологиям и космосу при Посольстве Франции в РФ
ИННОВАЦИЯ — ЭТО СОЧЕТАНИЕ НАУКИ И БИЗНЕСА. Чтобы понять, как и почему работает (или не работает) эта связь, надо воспользоваться эмпирическими данными и заново оценить основные положения. Настас проделал и то и другое.
Для себя я отметил две мысли автора. Первая: проблема инноваций вовсе не в отсутствии научных идей. Действительно, в лабораториях России трудится множество творческих, продуктивных умов, но, увы, потребитель покупает не идею, а продукт, а инвестор вкладывает в выгодное предприятие, а не в концепцию. Причина того, что на рынок попадает так мало новых изобретений, — в недоработке венчурных механизмов и нехватке предпринимателей-инноваторов.
Вторая интересная мысль Настаса заключается в том, что между наукой и инновационным бизнесом есть существенное различие. Наука глобальна по своей природе (русский писатель Чехов когда-то заметил: «Национальной науки не бывает, как не бывает национальной таблицы умножения»). Во всем мире ученые ищут ответы на основополагающие вопросы и стремятся удовлетворить фундаментальные потребности человечества: улучшить здравоохранение, разработать альтернативные источники энергии и т.д. Но это не значит, что и бизнес должен сразу стать глобальным и нацеливаться на решения для мирового рынка. Прорывные технологии встречаются крайне редко, да и не всегда инновации рождаются из сложных технологий.
В целом инновационный бизнес живет по общим законам: все глобальные компании, за редким исключением, сначала добивались успеха на местных рынках.